Глава IV. Учения, внушенные христианством
В Евангелии, равно как и в Библии, в проклятиях пророков, направленных против торговцев и скупщиков земель, в притчах Христа, в проповедях отцов церкви о долге богатых по отношению к бедным, не исключая и проповеди Боссюэ о "Возвышенном достоинстве бедных", в фолиантах канонистов и в "Сущности богословия" св. Фомы Аквинского встречаются многочисленные тексты, которые касаются экономических и социальных вопросов или даже формулируют непреложные поведения и которые своей запальчивостью далеко не уступают требованиям революционных социалистов наших дней.Но только в середине XIX столетия появились "социально-христианские” доктрины и школы с определенной программой, кото-
рая в поучениях религии ищет решение экономических проблем и план переустройства общества.
Довольно легко указать причины, вызвавшие их появление. Это была прежде всего реакция против социализма, реакция, нараставшая по мере того, как социализм становился все более материалистическим и антихристианским, и по мере того, как перед церковью вставала задача оторвать от этой новой религии народную душу, — церковь была одержима страхом за свою паству, за свой народ, уходивший под красное знамя антихриста. Было бы по-детски наивно и неверно видеть в этом только вопрос конкуренции. Здесь скорее следует усматривать пробуждение христианского сознания, задавшегося вопросами: не изменила ли церковь Христу; не забыла ли она, поглощенная божественной миссией, про земную миссию, которую она тоже должна выполнить; повторяя слова молитвы: "Да будет царствие Твое" и "Хлеб наш насущный даждь нам днесь", не упустила ли она из виду, что это царство должно реализоваться уже на этой земле и что этот насущный хлеб есть не только хлеб милостыни, но и заработная плата рабочего?
Впрочем, эти доктрины и школы весьма разнообразны, и мы увидим, как они варьируются, начиная от самого авторитарного консерватизма и кончая самым революционным анархизмом, и не без некоторого насилия над ними нам удастся ввести их в рамки одной и той же главы. Все-таки можно выделить некоторые положительные, а особенно отрицательные черты, общие им всем и группирующие их в одну семью.
Отрицательная черта всех этих доктрин состоит в том, что они отвергают либерала зм классической школы. Это не значит, что они все расположены делать призыв к государству, потому что мы увидим, что некоторые из них антигосударственны; это не значит также, что они отрицают существование естественного порядка, ибо как раз перед ним они благоговеют как перед проявлением воли Божьей и Провидением. Но человек, созданный свободным, восстал против этого порядка — это то, что называют грехопадением, — и ныне он не в состоянии сам вернуться к нему. Поэтому бессмысленно предположение, что достаточно естественного человека предоставить самому себе, т.е. предоставить его личному интересу, чтобы этот последний привел человека к добру и помог ему найти дорогу в потерянный рай, — это для него одинаково невозможно как в области хозяйственной жизни, так и в области религиозной. Наоборот, христианские школы заявляют, что естественный человек (то, что Евангелие называет ветхий человек), Адам, должен умереть в нас и уступить место новому человеку и что нужно будет сделать призыв ко всем божественным, моральным и социальным силам, чтобы помочь ему подняться вверх по той наклонной плоскости, по которой тянет его вниз эгоизм.
От социализма (даже тогда, когда они превосходят его необузданностью своих проклятий против капитализма и современного экономического порядка) эти школы отделяет то, что они не верят, что для создания нового общества достаточно будет изменить экономические условия и среду. Нужно будет, по их мнению, в то же время изменить и людей. Тем, кто спрашивал Христа, коща наступит царство Божье, тот ответил: "Царство Божье не придет приметным образом: оно внутри вас"; это значит, что социальная справедливость восторжествует тоща, коща она осуществится в сердцах людей. Поэтому было бы ошибочно смешивать социальное христианство с анархистами или даже с ассоциационистами, ибо последние думают, что человек по природе добр и извращен только цивилизацией, а также с марксистским коллективизмом, ибо в основе последнего лежат исторический материализм и борьба классов. Что же касается государственного социализма, то хотя некоторые христианские школы склонны дружно сотрудничать с ним, все-таки принудительную силу закона они ставят на второй план, а на первый план выдвигают ассоциацию — семейную, корпоративную или кооперативную. И как может быть иначе, если всякая церковь по самому определению является ассоциацией, а католическая церковь — какое бы ни было о ней мнение — самая грандиозная и наиболее спаянная из всех когда-либо существовавших между людьми ассоциаций: она связывает узами такой солидарности, которая должна презирать даже могилу, — это воинствующая церковь здесь и торжествующая там на небе, здесь, ще живые молятся за мертвых, и там, где святые представительствуют за грешников.
Но с конструктивной точки зрения эти школы ускользают от всякой классификации. Правда, можно сказать, что они все стремятся к созданию такого общества, в котором все люди будут братьями, потому что все — дети одного небесного Отца; но существуют различные понимания этого братского равенства. Можно также сказать, что все они, как это уже делали канонисты средних веков, говорят о справедливой цене и справедливой заработной плате, а это значит, что они не допускают, чтобы человеческий труд был товаром, предоставленным свободной игре закона предложения и спроса. Они видят в человеческом труде священную вещь, но ведь уже само римское право не допускало, чтобы res sacrae были предметом торгового оборота. Но коща заходит речь о формулировке программы, то дороги их расходятся. Действительно, если священные тексты, касающиеся социальных и экономических вопросов, многочисленны, то в то же время они довольно общи, так что могут служить точкой опоры для самых противоположных доктрин.
Может быть, скажут, что не было нужды выделять в особую главу эти учения как по их скорее моральному, чем экономическому, характеру, так и потому, что мы не найдем здесь таких славных имен, как на предыдущих страницах, которые сделали бы в науку оригинальный вклад, если не считать Ле Плея, да и он стоит в несколько искусственной связи с этой школой. Но важность доктрины должна измеряться не столько блеском ее представителей, сколько ее влиянием на умы, и нельзя отрицать, что в этой школе есть анонимные крупные идейные движения и что социальнохристианские доктрины оказали реальное воздействие на значительно более широкий круг последователей, чем доктрины Фурье, Сен-Симона или Прудона. Они находятся в связи с развитием экономических институтов громадной важности, как, например, с попыткой восстановления корпорации в Австрии, с сельскими кассами в Германии и во Франции, с кооперативными обществами в Англии, с лигой против алкоголизма, с борьбой за воскресный отдых и тд. Не следует забывать, что социальными христианами были люди, которых можно признать инициаторами покровительствующего труду и рабочим институтам законодательства в первую четверть XIX столетия: лорд Шефтсбери в Англии, пастор Оберлен и промышленник Даниэль Легран во Франции.
§ 1. Школа Ле Плея
Из всех социально-христианских школ школа Ле Плея1 самая близкая к классической либеральной школе, и даже некоторые из ее представителей числятся одновременно и в той, и в другой школе. Подобно классической либеральной школе, она питает антипатию к социализму и недоверие к вмешательству государства.
Но одновременно она, особенно в своей французской оптимистической форме, абсолютно отмежевывается от либеральной школы своим категорическим отрицанием принципа, согласно которому благо частного лица осуществится само собой. Нет, человек не знает блага. "Заблуждение" — наиболее частое и яркое явление социальной науки. Всякий новорожденный приносит с собой склонность ко злу и, как красноречиво говорил Ле Плей, "пришествие каждого поколения равносильно нашествию маленьких варваров. Падение становится угрожающим, если родители не спешат укротить их воспитанием".
И среди заблуждений, с наибольшей яростью разоблачаемых Ле Плеем, находятся как раз те заблуждения, которых придерживается буржуазный либерализм, — "ошибочные догмы 89гго года". Нужно, чтобы всякое общество, если оно хочет жить, реформировалось, вместо того чтобы отдавать себя в распоряжение так называемых естественных законов, являющихся лишь инстинктами, которые следует обуздать2. И вот почему главная книга Ле Плея называется "Reforme Sociale" ("Социальная реформа"), и основанная им школа носит то же имя.
Необходима, следовательно, власть. Что это будет за власть? Прежде всего власть отца семейства, более действительная, чем всякая другая, по двум основаниям: 1) потому что она берет свое начало в природе, а не в договоре или декрете; 2) потому что она действует любовью, а не принуждением. Таким образом, группирующаяся под властью главы семья, составляющая основу общества при патриархальном режиме, должна быть скрепой общества даже и теперь, коща последнее становится таким сложным, как наши современные общества. Конечно, власти отца недостаточно, ибо сам он слишком поглощен заботами, и необходимо, помимо его власти, учреждение других "социальных властей". Будет ли это государство? Нет, если возможно его избежать. Это будут прежде всего естественные власти, которые выросли самопроизвольно: дворянство там, где оно (как, к несчастью, во Франции) не пренебрегало своим призванием, крупные землевладельцы, хозяева, "мудрые”, под которыми разумеются не ученые, а люди, богатые опытом жизни, а за отсутствием их — ближе всего стоящие к заинтересованным местные власти (коммуна раньше департамента, департамент раньше государства). Вмешательство государства становится необходимым именно тоща, коща все эти социальные власти не выполняют своих обязанностей, например не восстанавливают воскресный отдых там, ще правящие классы подали пример нарушения его, так что необходимость вмешательства государства свидетельствует уже о патологическом состоянии, и степенью этого вмешательства измеряется некоторым образом степень зла.
Отсюда следует, что поскольку Ле Плей придает такое важное значение учреждению семьи, постольку он должен придавать не менее важное значение порядку наследования, ибо от последнего зависит продолжительность первой. И действительно, в порядке наследования лежит узел системы Ле Плея. Он различает три главных типа семьи.
1. Патриархальная семья. Отец — единственный собственник, или, точнее, единственный управитель всем имуществом семьи, а после его смерти все имущество переходит в полное распоряжение старшему сыну. Это древний порядок, современный пастушескому строю; оба они встречаются еще в степях Востока.
2. Семья-родоначальница. Дети и внуки не группируются больше под отцовской властью, они расходятся и основывают новые семьи, только один остается у отчего очага. Он будет назначен наследником, заменяющим отца, которому он был спутником в течение всей жизни, и будет назначен волей отца, а не по праву старшинства. Наследство переходит к достойнейшему или, во всяком случае, к тому, кто способен наилучше сберечь его. Такой порядок, по мнению Ле Плея, объясняет чудовищную устойчивость Китая. Тот же порядок, хотя уже и надломленный, составляет силу и крепость Англии. И во Франции есть несколько местностей, ще удалось сохраниться ему вопреки гражданскому кодексу. История семьи Мелуга, пиренейских крестьян, каждый раз является лейтмотивом в писаниях Ле Плея и его учеников (хотя, впрочем, эта семья ныне уже не существует).
3. Неустойчивая семья. В этой семье дети, становясь взрослыми, покидают отчий дом. Ко дню смерти отца семья уже рассеивается и окончательно разлагается; имущество делится по закону на равные части, сельское хозяйство и промышленное предприятие, если они имеются, ликвидируются. Это порядок, порожденный индивидуализмом и характеризующий почти все современные общества, и в особенности Францию.
Из этих трех типов все симпатии Ле Плея на стороне второго, потому что он наилучшим образом сохраняет равновесие между двумя антагонистами, но одинаково необходимыми для социальной жизни силами — между духом консерватизма и духом обновления. При строе патриархальной семьи первый играет преобладающую роль, а при строе неустойчивой семьи он слишком подавлен. При существовании последнего режима каждому поколению приходится делать работу Пенелопы, переделывать заново то, что сделано предыдущим. И этот периодический дележ вовсе не устанавливает обещанного равенства, ибо, коіда между братьями разорвана всякая связь солидарности и каждый старается для себя, одни из них обогащаются, а другие впадают в нищету. Этот строй ведет даже к падению рождаемости, чему внушительное доказательство представляет Франция, ибо ясно, что родители заинтересованы иметь возможно меньше детей, коща они знают, что дети, подобно маленьким животным, остаются при них, пока воспитываются, и бросают их, как только бывают в состоянии жить своими средствами.
Семья-родоначальница, наоборот, доверяется сыну, оставшемуся хранителем традиций, и сообщает уходящим сыновьям дух предприимчивости. Благодаря ей Англия завоевала мир. И в то же время этот строй сохраняет истинное братское равенство, ибо дом семьи всегда остается прибежищем для детей-неудачников. Для старых дев, чтобы не ссылаться на другие примеры, — это поддержка в их горестном положении.
Для восстановления семьи-родоначальницы во Франции единственным средством, кроме морального обновления, является восстановление свободы завещания или по крайней мере расширение свободной от завещательных распоряжений доли до таких пределов, чтобы отец мог целиком передать землю или предприятие одному из своих детей, за исключением той части, которой наследник по завещанию обязан вознаградить своих братьев в том случае, если остаток наследства не обеспечивает их законных долей.
Если власть отца над детьми составляет необходимый для прочности обществ элемент, то власть хозяина над своими рабочими, хотя и производная от первой, тоже очень важна — от нее еще непосредственнее зависит социальный мир. Социальный мир — основное содержание социальной науки, это выражение постоянно встречается в писаниях Ле Плед и его учеников, и основанные ими ассоциации называются "Союзами социального мира".
Первый опыт Выставки по социальной экономии в 1867 г., который был обязан своим возникновением Ле Плею (так же, впрочем, как и удивительный план всей выставки), имел целью раздачу наград учреждениям, назначением которых было "развивать доброе согласие между лицами, сотрудничающими в одном и том же деле". И можно сказать, что все движение в пользу патрональных учреждений, начавшееся в 1850 г. в Мюльгаузене под руководством Дольфюсов под следующим знаменитым паролем: "хозяин обязан рабочему больше, чем заработной платой", вдохновляется Ле Пле-ем. Это так называемая система "доброго хозяина". Было естественно, что апостол семьи-родоначальницы представлял себе фабрику тоже вроде семьи, построенную по образцу последней и характеризующуюся прочностью, постоянством обязательств, иерархией и свободно уважаемой властью главы.
Столь характерное положение Ле Плея, что спасение рабочего класса может прийти только сверху, еще менее основательно, чем противоположное ему положение синдикалистского социализма, утверждающего, что спасение рабочего класса может прийти только от него самого. Оно заранее было опровергнуто Стюартом Миллем в следующем прекрасном месте: "Нельзя указать ни одной эпохи, когда высшие классы играли бы роль, близкую к той, которую им назначает эта теория. Они всегда пользовались своей властью в интересах своего эгоизма... Я не стану утверждать, что всегда должно быть так, как было... Во всяком случае, по-видимому, бесспорно, что прежде, чем высшие классы достаточно разовьются, чтобы надлежащим образом отправлять предназначаемую им функцию опеки, низшие классы слишком подвинутся вперед, чтобы можно было управлять ими таким образом".
Кроме хозяина и государства, есть еще фактор социального прогресса, выдвигаемый ныне на первый план, — рабочая ассоциация. И можно было бы подумать, что рабочая ассоциация будет тем более симпатична Ле Плею, что она была вычеркнута "ошибочными догмами" Революции. Но это не так: он не ждет ничего хорошего от ассоциации ни в форме кооператива, ни в форме корпорации. В ассоциации ему представляется конкуренция, бесполезная и даже гибельная для той естественной и достаточной ассоциации, каковой является расширенная семья. Правда, Ле Плей не мог видеть рабочих синдикатов на деле, но маловероятно, что его мнение о них изменилось бы; во всяком случае, мнение его учеников малоблагоприятно для них.
Может быть, скажут, что в этих идеях нет ничего особенно нового. Такое утверждение доставило бы Ле Плею огромное удовольствие, ибо он заявлял: "В социальной области нечего открывать — вот единственное сделанное мною открытие!"
Этим открытием "основного устройства человечества", как он называет его, Ле Плей был обязан, по его мнению, своему методу наблюдения, ибо школа Ле Плея характеризуется не только определенной доктриной, но и методом, который, кстати, имел больший успех, чем доктрина, и ныне, по-видимому, в состоянии жить отдельной от доктрины жизнью. Ле Плей был горным инженером и крупным, особенно для своего времени, путешественником. В течение 20 лет он объехал всю Европу вплоть до Урала, и оттуда он вывез свой метод монографии рабочих семей, который он с гордостью противопоставляет "методу открытия".
Написать монографию семьи по методу Ле Плен — это не значит только рассказать историю семьи, описать образ ее жизни и проанализировать средства ее существования; это также значит заключить все проявления ее жизни в рамки определенного бюджета, распадающегося на две части — на доходы и расходы, и каждый отдел его заранее пронумерован и отметить этикеткой, чтобы все можно было точно сравнить друг с другом. Конечно, много искусственного и по-детски наивного в этом на первый взгляд строгом методе, с помощью которого разбиваются на разряды и выражаются во франках и сантимах не только экономические потребности, но и образование, и увеселения, и напитки, и добродетели, и пороки. Но преимущество его заключается в том, что он может руководить даже самым неопытным наблюдателем, заставляя его распределить материал по отделам без всяких пропусков.
Но когда Ле Плей заявляет, что этот метод открыл ему истину, т.е. только что изложенную нами доктрину, он, по-видимому, глубоко заблуждается: в руках других он мог бы открыть совершенно противоположное, и это как раз и случилось. Ле Плей говорит, что метод показал ему, что нет других счастливых семейств, кроме тех, которые группируются под сенью отцовской власти и следуют десяти заповедям скрижали. Допустим, но кого подразумевает он под "счастливыми семьями"? Такие семьи, которые живут в согласии, в любви к Богу и отличаются устойчивостью. Он, следовательно, а priori составляет себе известный критерий счастья, но нужно думать, что "неустойчивая и дезорганизованная" семья рабочего парижских пригородов бесконечно счастливее, чем семья-родона-чалышца Мелуга или башкирская патриархальная семья из Туркестана*.
Ле Плея и его школу часто сближали с немецкой исторической школой как в силу важности, которую она придает методу наблюдения, и в силу предпочтения, которое она отдает учреждениям прошлого, так и в силу реакции с ее стороны против классического либерализма и оптимизма. Но это только поверхностное сходство. По существу же обе школы не только различны, но и противоположны. Немецкая школа в прошлом ищет объяснения настоящего, а школа Ле Плея ищет там уроков. Одна изучает в прошлом семена, которые станут плодами, тогда как другая благоговеет там перед типом, перед образцом, на который надо сделаться похожим. Одна эволюционна, а другая традиционна. Первая упирается в очень ра-
кя.)
По-видимому, авторами допущена историко-географическая ошибка. (Прим.
дикальные, даже социалистические, выводы, а вторая — в консервативные.
Поэтому-то нам и казалось, что настоящее место для Ле Плея не в главе об исторической школе, а в главе о христианских социальных доктринах.
Одного основного учения его о врожденной наклонности человека к заблуждению и ко злу достаточно для того, чтобы найти для его теории место среди доктрин. Тем не менее не следует смешивать доктрину Ле Плея с доктриной социального католицизма, потому что он постоянно обращается к заповедям, Моисееву закону и беспрестанно ссылается как на пример на Англию, протестантскую страну, и даже довольно часто на Китай и мусульманские страны. С другой стороны, Ле Плей отводит церкви и духовенству с некоторым недоверием и довольно слабое, но все же место между социальными властями. Наконец, как мы увидим, его программа реформ сильно отличается от программы социального католицизма.
В 1885 г. в школе Ле Плея произошел раскол. "Союзы социального мира" со своим органом "Социальная реформа" остались верными только что набросанной нами программе. А отпавшая часть с Демоленом и аббатом Турвилем во главе эволюционировала в сторону ультраиндивидуализма и учения Спенсера, так что с изложенными в этой главе учениями она связана только своим происхождением.
Школа "социальной науки", как она себя называет, — таково, во всяком случае, название обслуживающего ее журнала, — стремится восстановить и пользоваться методом Ле Плея, в частности тем объективным его методом, которым он пользовался в первое время своей деятельности. Ле Плея школа упрекает в том, что он не сумел использовать своего метода и не выполнил своей задачи, заключавшейся в том, чтобы на нем основывать положительное знание. Методу монографии новая школа предпочитает метод классификации, который с целью уяснения явлений располагает их, сообразуясь с их взаимной естественной связью, и прежде всего пытается установить их связь с географической средой. Эта среда, имевшая уже у Ле Плея огромное значение, в школе "социальной науки" играет еще более громадную роль. С помощью такого метода показывается, например, как конфигурация норвежского фиорда благодаря недостаточности годных к обработке земель, благодаря необходимости заниматься рыбной ловлей и даже благодаря размерам лодки создала семейный, экономический и даже политический строй англосаксонских обществ. Точно так же громадная азиатская степь создала другой, свойственный ей тип цивилизации и тд. Это исторический материализм марксистов, появляющийся здесь в более живописной и, по нашему мнению, в более соблазнительной форме географического материализма.
Эта школа не принимает той части программы социальных реформ Ле Плея, которая касается семьи. Проповедуемая ею цель направлена не столько к сохранению семьи, сколько к тому, чтобы создать для каждого ребенка возможность поскорее основать свою семью; цель ее направлена не к семейной и общинной солидарности, а к самопомощи, не к семье-родоначальнице, а к тому, что она называет партикулярисгской семьей, не к английской, а скорее к американской семье. Демолен был приверженцем борьбы за существования. Никто, кроме него, с большей силой не презирал соли-даристской доктрины. "С социальным спасением, — говорил он, — происходит то же, что с вечным спасением, — это по существу личное дело", — заявление, говоря в скобках, в высшей степени еретическое, ибо если спасение чисто индивидуальное дело, то для чего же нужна церковь?3
§2. Социальный католицизм
Иногда говорят: католический социализм, но католики обыкновенно протестуют против такого крайнего эпитета, который в действительности подходит только к меньшинству из их среды. Выражение "христианский социализм" впервые было употреблено одним французом, Франсуа Гюэ, в книге под названием: *Le regie social du christianisme* ("Социальное царство христианства", 1853 г.).
Но до него Бюшез (''Essai, d’un traite complet de philosophic au point de vue du catholicisme et du progres", 1838 — 1840 гг.) и даже пламенный аббат Ламеннэ ("La Question du travaiV ("Проблема труда", 1848 г.) могут претендовать на звание предшественников. Все знают, что Бюшез был основателем производительных кооперативных ассоциаций (1832 г.), но меньше известно, что Ламеннэ проповедовал кредитную кооперативную ассоциацию почти в той же форме, в какой она была осуществлена впоследствии Райфайзеном в Германии.
Тем не менее современный социальный католицизм никого из этих трех предков добровольно не признает своими предшественниками. Это происходит оттого, что все трое хотели установить союз между церковью и революцией. Ныне самые передовые социальные католики ограничиваются попыткой установления союза между церковью и демократией — программа, недавно воспринятая Марком Санье, основателем"Sillon" ("Борозды").
Немного спустя монсиньор фон Кеттелер, майнцский епископ, проповедует учение, вдохновляющееся уже не тем, что вскоре назовут "ошибочными догмами 89-го года", а, наоборот, средневековыми институтами — корпорациями, которые проповедуются им и особенно его учениками, каноником Муфангом и аббатом Гице, как стержень социальной католической организации.
Во Франции социальный католицизм, дремавший при Второй империи, пробуждается после катастрофы 1870 г. Его вдохновителем был граф Альберт де Мен, который благодаря своему великолепному красноречию, а также благодаря созданию рабочих като-яических кружков дал ему сильный толчок. В то же время стал появляться журнал "Association cathotique" ("Католическая ассоциация"), который задавался в точности им выполненной целью изучения всех экономических явлений в духе католицизма.
В основу социально-католической программы была решительно поставлена корпоративная организация. Это не значит, что семья, которую Ле Плей делал краеугольным камнем социального здания, была отброшена; относительно нее стали придерживаться того мнения, что если она должна остаться центром моральной реформы, то в тех случаях, когда идет речь об экономической реформе, в основу следует класть ассоциацию с чисто экономическим характером.
На первый взгляд это не кажется особенно удивительным. Не замечаешь ни того, какие связи родства профессиональная ассоциация может иметь с Евангелием, ни того; какими средствами она сможет видоизменить общество в христианском направлении. Но следует заметить, что если корпоративного режима и нет в Евангелии, то им, во всяком случае, был отмечен весь средневековый период, в течение которого было установлено полное господство церкви. И пока продолжается этот режим, не возникало того, что ныне называется социальным вопросом; это и наводит на мысль о том, что в корпоративном режиме были налицо такие качества, которые необходимы для поддержания мира между трудом и капиталом. Конечно, ныне нет таких качеств в нем, но для возрождения этих качеств в профессиональной ассоциации, может быть, было бы достаточно дисциплинировать ее религиозным духом, как это было в те времена, когда корпорация и братство составляли одно целое.
Речь, однако, идет не о том, чтобы вернуться к цехам средних веков, как говорят это противники социального католицизма, злоупотребляющие этим легким аргументом. Социальные католики хотят опереться на современный профсоюз, на синдикализм; а что это не слишком узкое основание для возведения нового общества, доказательством служит то,что неосоциалисты, пришедшие к этому значительно позже, не ищут иного основания. Неосоциалисты ожидали от него не только нового общества, но и новой морали. Можно, следовательно, сказать, что, опережая их на этой почве, социальные католики в своей политике оказались достаточно дальновидными.
На первых стадиях движения делались попытки организации смешанных синдикатов, объединявших хозяев и рабочих, что казалось лучшей гарантией социального мира4. Но надежды не оправдались. Пришлось отказаться от таких профсоюзов и ограничиться организацией отдельных союзов для хозяев и рабочих, но сотрудничество этих союзов должно было проявляться в регламентации труда и разрешении конфликтов. Это параллельные, а не смешанные профсоюзы. Мало-помалу им предстояло сделаться органами рабочего законодательства вместо государства, которое в этом отношении менее опытно, чем они. Отныне все, что касается интересов профессии, продолжительности труда, воскресного отдыха, ученичества, гигиены, труда женщин и детей и даже минимума заработной платы, должно было регламентироваться самими профсоюзами, а не государством с его негибкими, жестокими и потому почти всегда неприменимыми законами. И эти регламенты были бы обязательны для всех хозяев и рабочих, принадлежащих к одной и той же профессии. Каждому предоставлялась бы свобода вступать или не вступать в профсоюз, но не нарушать его регламентов, чтобы, нарушая условия труда, конкурировать с синдицированными. Ныне принятая формула гласит: "свободная ассоциация в организованной профессии".
На негодующие возражения либералов о том, что простые частные ассоциации облекаются таким образом законодательной властью, социальные католики отвечают, что общность труда составляет такую же естественную и необходимую форму ассоциации (надо разуметь под этим: такую же независимую от добровольного соглашения заинтересованных), как и общность местожительства. Но ведь все допускают, что жители коммуны должны подчиняться закону организованного большинства. Почему же к корпорации нужно иначе относиться, чем к коммуне?
Они заходят даже так далеко, что признают за профессиональными ассоциациями официальную политическую роль, превращая корпоративную организацию в основу для нового избирательного корпуса, во всяком случае для выборов в одну из палат.
Не очень легко, хотя все-таки и не труднее, чем для всех других проектов социального обновления, представить себе, чем было бы общество, устроенное по такому плану социальных католиков.
Прежде всего это было бы, по-видимому, общество, исповедующее католическую веру. В самом деле, все рухнет, если в рядах этой корпоративной организации будут господствовать враги религии или даже индифферентные к ней люди. И уже это делает осуществление такого общества весьма гипотетическим. Но пойдем дальше.
Это общество будет основано на братстве в полном смысле этого слова (и даже, как мы только что видели, на том единственном братстве, которое может сослаться на божественное происхождение), но не на равенстве в социалистическом смысле этого слова, ибо наличие детей в семье от одного и того же отца не препятствует существованию неравенства и даже предполагает если не право старшинства, то, во всяком случае, долг старшинства. Точно так же в корпоративной организации будет господствовать равенство в том смысле, что самый низкий труд будет равен по своему достоинству так называемому благородному труду и что каждый сможет быть довольным и даже гордиться тем положением, в которое поставил его Бог в сей жизни.
Но это общество будет иерархическим: у хозяев — власть со всей ответственностью и со всеми предполагаемыми ею обязанностями; у рабочих — права, признаваемые хозяевами, обеспеченная минимумом заработной платы жизнь и восстановленная семья.
Социальный католицизм считает неправильным первый параграф социалистической программы: "освобождение рабочих будет делом самих рабочих". Освобождение рабочих произойдет при содействии хозяев и всех социальных классов, включая землевладельцев, рантье и даже потребителей, — все эти должны будут познать ответственность, возлагаемую на них их различным положением, и в особенности выпадающим на их долю, как на долю домохозяина в притче, долгом "умножить порученные им господином таланты".
Немецкие христианские профсоюзы (Christliche Gewerkvereine), рекрутирующиеся из католиков, начинают занимать огромное место в общественной жизни Германии в противовес красным социалистическим. Они проповедуют единение хозяев с рабочими, но в то же время энергично протестуют против всякого смешения их с "желтыми", т.е. объявляют себя независимыми как от хозяев, так и от социалистов.
Вмешательство государства будет необходимо вначале для установления корпоративной организации, но раз последняя будет установлена, она мало-помалу поглотит, как мы видели, законодательную власть и полицейскую, во всяком случае в области рабочего законодательства, и особенно в существенном пункте его — в области фиксирования заработной платы и в области всего того, что стоит в связи с ней, как, например, организация пенсионных касс. Но законодательная власть корпоративной организации найдет широкое поле для своей деятельности даже и вне профессиональных интересов, а именно в сфере регламентации прав собственности, запрещения ростовщичества, покровительства земледелию и тд.
Государство, говорит энциклика Льва XII Immortale Dei, которая, впрочем, повторяет только слова св. Павла, — это "божий слуга добру". Но в одном месте св. Павел говорит, что закон — учитель, который должен привести нас ко Христу, и если этим словам придать тот смысл, что назначение закона — вести людей к братской солидарности, то получится довольно точное представление о том, как смотрит социальный католицизм на роль государства.
* * *
Иногда социальный католицизм проявлял весьма передовые тенденции, и это сильно сближало его с социализмом в собственном смысле. Но они оставались индивидуальными проявлениями и формально осуждались Римом, а исповедовавшие их лица обыкновенно преклонялись перед папским осуждением.
Тут прежде всего надо упомянуть о Лезевице, который в 1888 г. в "Католической ассоциации" жестко напал на так называемую продуктивность капитала. Эго вызвало некоторый шум, и граф де Мен написал опровержение. Впоследствии положения его сделались программой так называемой партии "молодых аббатов". Следует припомнить также движение "Борозду" (с 1890 по 1910 г.), которое в политической области старалось примирить церковь с демократией и даже с республикой, а в экономической области доходило до уничтожения наемного труда и патроната5 точно так же, как у синдикалистов, ибо статья II статутов "Конфедерации труда" также ставит целью "исчезновение наемного труда и патроната". Вместо того чтобы искать разрешения в параллельном действии хозяйских и рабочих профсоюзов, оно стремилось к уничтожению первых и к полному господству вторых, становящихся распорядителями орудий производства и, следовательно, могущих сохранить для себя весь продукт своего труда. Все-таки оно отличается от синдикализма, в особенности с точки зрения моральной, ставя над завоеванием материального благополучия другой высший идеал, представляющийся еще как бы более необходимым, чем эмансипация рабочего класса. Известно, что по приказу папы "Борозда" должна была распуститься, но это решительно синдикалистско-рабочее движение тем не менее продолжается.
Если католическая школа с некоторым трудом иноща подавалась налево, то направо она всеща держалась твердого направления, что естественно объясняется преобладающей ролью в Ней хозяйского элемента."3адача не в том, чтобы рабочий сам спасся, а в том, чтобы хозяин спас рабочего". Это уже сформулированная школой Ле Плея доктрина "доброго хозяина". Кроме того, правое крыло социального католицизма думает, что существующих учреждений было бы совершенно достаточно для решения того, что называется социальным вопросом, если бы только они были оживлены христианским духом и если бы правящие классы умели "ходить в народ".
§ 3. Социальное протестантство
Весьма распространенная мысль о том, что протестантство по необходимости индивидуалистично, так как характеристическая черта этой религии состоит в том, что каждый верующий исповедует личную веру и для собственного спасения не нуждается ни в чьем посредничестве между собой и Богом, кроме разве посредничества Христа, между тем как в католичестве каждый может быть спасен только через церковь, через великую общину верующих. И поскольку протестанство есть религия самопомощи, постольку предполагается, что оно могло лишь перевести эту догматическую концепцию в социальную проповедь. Кроме того, замечают, что протестантство стоит в связи с либеральной буржуазией, и из всего этого делают тот вывод, что если оно в политике вообще занимает место на левой стороне, то в экономической области оно помещается на крайней правой.
Некоторая доля истины, заключающаяся, может быть, в этой оценке с точки зрения догматической и исторической, ничего не говорит против того, что социальное протестантство в экономической области ушло значительно дальше вперед, чем социальный католицизм, ибо, как мы увидим дальше, его крайняя левая не довольствуется подобно католической крайней левой уничтожением частной собственности и останавливается лишь на той границе, которую сам коммунизм, пожалуй, не перешагнул бы.
Дату рождения социального протестанства можно точно установить, отнеся ее к 1850 г., когда в Англии было основано "Общество содействия рабочим ассоциациям" (for promoting woridngrnens association) и стала выходить обслуживающая его газета под названием "The Christian Socialist" ("Христианский социалист"). Вдохновителями этого общества были два пастора (позже профессора теологии в Кембридже) Чарльз Кингсли и Моррис, а также Лэдлоу, Юз и Ван-ситтарт Нил. В особенности первый был тоща очень видным человеком не только благодаря своему красноречию, но и благодаря успеху своего романа "Альтой Локк" (1850 г.), который был, может быть, первым социальным романом; содержанием его была история одного портного, работавшего при "потогонной" системе (sweating system), ужасы которой были разоблачены перед обществом впервые.
Группа христианских социалистов — название, которым отныне стали их обозначать, — задавалась целью (как это указывает название их общества) организации рабочих ассоциаций. Но какого типа? Не профессиональной ассоциации, тред-юниона. Почему? Может быть, потому, что профессиональные союзы в то время были плохо известны или были известны лишь в малопривлекательном свете, так как еще корчились в бурных вспышках юности. А также потому, что, занимаясь исключительно своими частными интересами и борьбой за заработную плату, эти ассоциации представлялись христианским социалистам неспособными развивать дух самопожертвования и любви, необходимый для осуществления христианского социализма. И не потребительской кооперативной ассоциации, несмотря на недавний успех рочдельского потребительского общества, потому ли, что эти общества казались проникнутыми духом Оуэна, который был определенно антирелигиозным, или потому, что, задаваясь целью лишь сделать жизнь для рабочих менее дорогой и более комфортабельной и будучи в сущности лавочками (stores), эти общества не казались избранным местом для пришествия царствия Божьего. Христианские социалисты обратились к производительной рабочей ассоциации, как это, впрочем, сделали и первые католические социалисты. Но протестанты вдохновились не Бюшезом, которого они, по-видимому, не знали, а ассоциационистским движением 1848 г., которое уже соблазнило Стюарта Милля. В эту эпоху Лэдлоу находился в Париже и наблюдал производительные кооперативные ассоциации в момент их полного, но краткого расцвета. Ему показалось, что такие именно ассоциации были желанным экономическим орудием для превращения наемника в свободного производителя и в то же время очень хорошей школой для того, чтобы приучиться подчинять частный интерес коллективному. Но в Англии эти надежды потерпели еще более быстрое и более полное поражение, чем во Франции. Похоже, что ассоциация христианских социалистов даже не приступила к осуществлению своей задачи.
Все-таки дело ассоциации не было совершенно напрасным, ибо, чувствуя себя бессильной вызвать движение среди рабочих и встречаясь на каждом шагу с препятствиями, которые тогдашнее законодательство ставило на пути устройства рабочих ассоциаций, она отвернулась от государства и открыла кампанию в пользу более либерального законодательства. И действительно, почти исключительно этому обязаны своим возникновением законы 1852 и 1862 гг. (Industrial and Provident Societies Acts), которые на первый раз признавали юридическое лицо за кооперативными ассоциациями, а потом это было распространено и на все другие рабочие ассоциации.
Впрочем, христианские социалисты придавали второстепенное значение тому или иному способу осуществления их идеала. Они по опыту знали, что рабочая ассоциация и само законодательство могут принести хорошие плоды лишь тоща, коща внутренний мир рабочих изменится. Поэтому их реформа была прежде всего моральной реформой. И выражение "кооперация" в их устах означало не столько реализацию той или иной промышленной системы, сколько антитезу режиму конкуренции, борьбе за существование. Их истинная мысль, может быть, лучше всего выражена в письме, написанном Лэдлоу Моррису (Париж, март 1848 г.), где он подчеркивает необходимость "охристианить социализм".
Социальное христианство в Англии пережило своих основателей, но с измененной программой. Оно отбросило мечту о производительной ассоциации и поддерживает другие формы кооперации, но в особенности оно задается вопросом трасформации земельной собственности — вопросом, в высшей степени жгучим для Англии вследствие скупки земли незначительным числом лендлордов. Вдохновляемый Библией христианский социализм вспоминает изречение: "Земля — моя", — говорит Вечный Жид, и то, как это заявление получило практическое освещение в Моисеевом законе отпущения, по которому каждые 49 лет земля возвращалась в руки ее первоначальных владельцев. Он делается пропагандистом системы Генри Джорджа, который, впрочем, сам может быть помещен среди христианских социалистов. Помимо аграрного вопроса, английское социальное христианство становится также защитником интересов рабочего класса. Многие английские церкви — так называемые церкви-институты (Institutional Churchs) — принимают на себя заботу обо всех материальных, интеллектуальных и моральных нуждах рабочей жизни. Многие из лидеров рабочего социалистического движения, например Кейр-Гарди, — ревностные и деятельные христиане. Федерация Brotherhoods (братства) объединяет ныне около 2000 обществ и 1 000 000 рабочих для пламенной пропаганды идей, где Евангелие вступает в тесный союз с социализмом.
В Соединенных Штатах Северной Америки христианский социализм оказывается еще более агрессивным в борьбе против капитализма, который он на библейском языке называет маммониз-мом. Первое общество христианских социалистов было, по-видимому, основано в Бостоне в 1889 г. С того времени стало существовать много других. Новейшее из них определяет свою цель в статуте следующим образом: "Заставить церкви проникнуться мыслью о социальной миссии Иисуса и показать, что социализм является по необходимости экономическим выражением христианской жизни". И немного дальше: "идеал социализма тождествен идеалу церкви и ... Евангелие кооперативной республики (Cooperative Commonwealth) есть не что иное, как переложенное на экономические термины Евангелие царства Божьего".
Наоборот, крайнюю правую социального протестантства следует искать в Германии. В 1878 г. пасторы Штекер и Тотд основали социально-христианскую партию рабочих, которая вопреки своему названию рекрутировалась из средних классов и не имела влияния на рабочий класс, а вскоре и в своем названии не замедлила вычеркнуть слово "рабочих”. Впоследствии Штекер стал придворным пастором, и это обстоятел ьство сообщило движению полуофициальный характер. К этому времени относятся слова Штекера: "Я втайне убежден, что мы сможем втиснуть социальную революцию в ложе социальных реформ". Но в 1890 г. император Вильгельм II дал отставку своему пастору, а с ним официальному социальному христианству.
Немного спустя, в 1896 г., на Эрфуртском конгрессе два молодых пастора из Франкфурта Науман и Гере попытались направить протестантские церкви на более социалистический путь и увлечь за ними рабочий класс, но осужденное официальной лютеранской церковью, осаждаемое классом капиталистов и не поддержанное социал-демократами, это движение потерпело поражение, а вожаки его занялись политикой.
В Швейцарии движение также сильно развивается и даже нашло своих наиболее просвещенных апостолов в лице профессора Рагаца и пасторов Купера и Пфлюгера (последний стал потом депутатом). Во Франции также существует несколько социально-протестантских школ, но так как они своих членов рекрутируют из небольшой группы протестантов, которая сама по себе составляет ничтожное меньшинство в стране, то их действие не может быть особенно значительным. Все-таки мы встречаем их при зарождении или впереди различных социальных движений, как, например, против алкоголизма и порнографии, в пользу кооперации6 и создания народных домов, так называемых Solidarites. "Ассоциация для практического изучения социальных вопросов” была основана в 1887 г. пастором Гутом, а пастор Томи Фало был ее президентом и вдохновителем. Она держится в границах умеренности и в сфере действия не заходит дальше кооперации, а в области доктрины — дальше солидарности. Новая доктрина солидарности (хотя она идет со стороны радикалов и в качестве антитезы духу благотворительности, как мы увидим дальше) была принята социальным протестантством с энтузиазмом. Она тотчас же объявила его даже своим и жаловалась, что его похитили у нее, ибо, говорила она, іде найти более энергично выраженный закон солидарности, как не в христианском учении о грехопадении и искуплении: все люди пали благодаря грехопадению одного — Адама, и все люди спасаются благодаря деяниям одного — Христа.
Но одна группа молодых пасторов, соответствующая в достаточной мере той, которая в социальном католицизме называлась партией "молодых аббатов", недовольна этой программой, которую она находит слащавой и подобно своим американским коллегам расширяет ее до границ коллективизма7. Во всяком случае, они требуют, чтобы по крайней мере "был поставлен" вопрос о частной собственности.
В сущности внутри протестантства всех стран "социальное христианство" стремится эволюционировать в направлении "христианского социализма”, и эта простая перестановка слов указывает на программные изменения. Это означает, что социальные протестанты усваивают главные принципы интернационального социализма (социализацию средств производства, борьбу классов, интернационализм ) и утверждают свое полное согласие с евангельскими предписаниями.
Все-таки даже там, где социальное протестантство в сфере экономической сходится с коллективизмом, оно отделяется от него категорическим утверждением необходимости индивидуальной моральной реформы, точно так же как и, наоборот, от индивидуалистического христианства оно отличается утверждением, что индивидуальное спасение невозможно без социальной трансформации. Обращение сердца предполагает обращение среды. К чему проповедовать целомудрие тем, кто вынужден спать в одной и той же комнате среди множества людей без различия пола и возраста? "Общество, — говорит Фало, — должно быть организовано так, чтобы спасение было доступно всем". "Этот режим крупной индустрии, — говорит Гунэль, — величайшее препятствие на пути к спасению грешников, которое когда-либо встречал Христос". Этот протестантский социализм остается индивидуалистическим в том смысле, что, пытаясь уничтожить индивидуализм, поскольку он является эгоизмом, центростремительной силой, он хочет сохранить и укрепить его как принцип бескорыстной активности, как центробежную силу. Он охотно принимает за свой девиз следующие слова Вине, выгравированные на пьедестале его статуи в Лозанне: "Я хочу человека-господина над самим собой, чтобы он был лучшим слугой для всех".
§ 4. Мистики
Обозрение инспирированных христианством доктрин, каким бы кратким оно ни было, не может миновать имен нескольких выдающихся людей, которые, не принадлежа к этой школе и не числясь ни среди экономистов, ни среди социалистов8 в собственном смысле, оказали в качестве литераторов, историков или даже романистов поддержку этим доктринам своим страстным красноречием.
Самыми въедающимися людьми в этом движении на поприще социального христианства являются два человека: англичанин Рё-скин и русский Толстой, но можно было бы привести много других9. Эти два великих старца (оба умерли несколько лет назад в возрасте более 80 лет) напоминали среди нас древних пророков Израиля. Они были Исаем и Иеремией, проклинающими торговцев Тира и Сидона, которых ныне называют капиталистами, возвещающими новый Иерусалим, где "будет жить справедливость". И говорят ши почти тем же самым вдохновенным языком, в особенности Рёскин, пропитанный текстами Библии10. Оба они отвергают гедонистический принцип личного интереса как руководящий принцип экономической деятельности; оба разоблачают деньги как орудие, с помощью которого человек смог покорить своего ближнего и воскресить новое рабство11, и проповедуют возврат к ручному труду как могущественному средству освобождения и возрождения. Однако они отличаются друг от друга концепцией будущего общества, которое по Рсскину должно быть аристократическим, рыцарским, героическим, между тем как по Толстому оно должно быть эгалитарным, коммунистическим, сельским; один смотрит на него глазами эстета, а другой — глазами мужика; один хочет главным образом героев, а другой — главным образом святых.
Упомянем также Томаса Карлейля, автора между прочими многочисленными трудами "Истории французской революции" (1837 г.) и знаменитой книги "Герои и героическое в истории". Хронологически он немного раньше обоих только что нами названных авторов вступил на арену общественной деятельности. В истории экономических доктрин он оказал еще большее влияние, и хотя его нельзя поместить среди христианских социалистов и принадлежит он скорее к семье индивидуалистов типа Ницше и Ибсена, однако его влияние было параллельно влиянию Рёскина. Их проклятия против современного экономического строя раздаются, как эхо, или, еще лучше, как реплики хора в древних трагедиях12.
Карлейль пробил самую значительную брешь в либеральной классической школе. Он заклеймил политическую экономию, по крайней мере ту, которая преподавалась в его время, именем dismal science (мрачной науки). Он высмеял абстрактного homo оесопоті-cus и дал следующее определение роли государства: anarchy plus constable (анархия вкупе с жандармом). Он разоблачил банкротство laisser fairea.
Но его область — критика, и он не предлагает программы социальных реформ, кроме разве что реформы обновления внутреннего существа, и этим приближается к христианской школе14.
Рескин же, наоборот, выставляет целую программу социального обновления, которую можно сформулировать следующим образом.
1. Ручной труд обязателен для всех. Рёскин не упускает случая напомнить слова св. Павла: qui non laborat, non manducet (кто не работает, тот да не ест). А почему? Потому что нелепо и безнравственно, чтобы человек мог жить в праздности, оплачивая услуги своих ближних полученными по наследству деньгами. "Нужно оплачивать свое существование", иначе говоря, нужно, чтобы каждый оплачивал нынешний труд нынешним трудом, ибо противоречие —жить за счет мертвого труда, но нужен труд, истинно человеческий, облагороженный, т.е. труд, не прибегающий к пользованию машинами, кроме тех, однако, которые приводятся в движение водой или ветром, примитивными силами, которые в отличие от угля не загрязняют, а очищают.
Рёскин хочет, чтобы всякий труд был художественным и чтобы звание ремесленника (artisan) сделалось синонимом художника (artiste), как в средние века (судя по тому, как говорят, но, может быть, немного преувеличивают). На практике не очень легко добиться этого. Несколько учеников Рёскина стали переплетчиками роскошных книг, но у них рынок очень ограничен.
Что касается Толстого, то он имеет в виду не артистический, а сельский труд, который кажется ему без прикрас довольно благородным.
2. Труд гарантируется всем — это дополнение и корректив к предыдущему правилу, т.е. не будет праздных людей, но также не будет и безработных. В современном обществе труд необязателен, но для громадного количества людей обязательна безработица15. Надо изменить этот чудовищный порядок вещей. Однако хватит ли для всех работы тоща, когда все должны будут работать. Этого опасаться не придется, ибо при новых условиях получится не рост безработицы, а увеличение досуга. В этом разница.
3. Труд вознаграждается не по закону предложения и спроса, причем человеческий труд уподобляется товару, а по справедливости, которую, впрочем, не будет необходимости облекать в писаный закон, — достаточно будет обычая, сообразно с которым определяется, например, гонорар врача, адвоката, профессора. Правда, в этих профессиях есть индивидуальное различие, но есть и норма: и противно профессиональным достоинствам, иногда даже запрещено регламентами корпорации, получать меньше и даже, охотно прибавил бы Рёскин, получать больше. Каждый человек, к какой бы профессии он ни принадлежал, — рабочий, солдат, кузнец — должен работать не из-за выгоды, а ради общественного интереса. Конечно, его должно прилично вознаграждать, чтобы сохранялось достоинство рабочего и чтобы функции его надлежащим образом отправлялись, но делать из барыша цель, а из труда средство — значит извращать истину.
4. Национализация всех естественных богатств (земель, руд, водопадов), а также и путей сообщения.
5. Общественная иерархия устанавливается сообразно с отправляемой службой, свободно принятой и уважаемой без низкой- зависти; вбссоздание нового рыцарства, без которого "как военное общество, так и промышленное не может существовать", и открытый крестовый поход против постыдного маммо-низма16.
6. И в особенности воспитание, а не образование только, ибо важно прежде всего наставлять в чистоте, красоте, повиновении, службе другим и важно приобрести "способность удивляться, надеяться и любить"17.
До настоящего времени из всей программы Рёскина только последний параграф стоит на пути к осуществлению, но и этого достаточно, чтобы дать учителю место в истории экономических доктрин. Она привела не только к созданию рабочего колледжа в Бокс-форде и других "Колледжей Рескина", но и к созданию городов-садов18, новых городов, основанных специально с целью освобождения рабочего класса из тюрьмы старых промышленных городов и построенных по планам с таким расчетом, чтобы ни в настоящем, ни в будущем не повредить красоте природы и здоровью лю-дей.
Хотя Рескин награждает самого себя как почетным титулом эпитетом "краснейший из коммунистов", но его коммунизм был аристократическим и эстетическим, и потому он имел некоторый успех в высшем английском обществе. Толстой же истинный коммунист. Он насмехается "над низким и скотским инстинктом, который люди называют чувством или правом собственности”19. Его программа — возврат к земле и общинной обработке ее, к "миру”. Не в том дело, чтобы исполнять какую-нибудь работу, а в том, что каждому прежде всего надлежит производить свой хлеб: "Это неизбежный закон человеческого существования"20. А что касается разделения труда, который так прославляется экономистами и с помощью которого людям удалось уклониться от божественных предначертаний, то он не более как "дьявольское наваждение". Во всяком случае, к нему надо прибегать, только сообразуясь с потребностями и при надлежащем соглашении между заинтересованными, но не путем предварительного его введения, что порождает конкуренцию, перепроизводство и кризисы.
Если это учение принять в буквальном смысле, как Толстой сам рекомендует нам принимать в буквальном смысле все изречения Христа, то общество, о котором он грезит, уйдет далеко за пределы коммунистического идеала. Не будет ни городов, ни торговли, ни деления ремесел, ни денег, ни искусства для искусства... Будет экономическая нирвана.
эн
Книга пятая
Новые учения

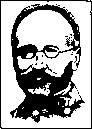
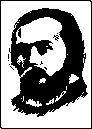
| Вильфредо Парето 1848 - 1923 |
Евгений Бем-Баверк 1851 - 1914 Мари Эспри Леон Вальрас 1834 - 1910 |
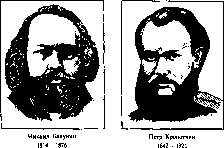

\
В начале предыдущих книг мы без особого труда могли отмечать существенные черты экономической мысли в каждую эпоху. Но на пороге этой последней книги мы испытываем некоторое колебание. Перед нами нет перспективы. Нужно было бы отступить подальше, чтобы беспристрастно оценить значение совершающейся на наших глазах эволюции. И потому здесь больше, чем в другом месте, мы рискуем встретиться с указанием на произвольность нашего выбора.
Все-таки можно, по-видимому, различить четыре крупные основные тенденции в экономической мысли в конце XIX и в начале XX столетия.
1. Прежде всего неожиданная новая тяга к теории. Чистая экономическая теория, охотно пренебрегаемая экономистами-истори-ками, государственными социалистами и социальными христианами, нашла к 1872 г. выдающихся представителей одновременно во Франции, Англии и в Австрии. Принявшись вновь за идеи, почти оставленные со времени Кондильяка, и пользуясь математическим методом, пренебрегаемым со времени Курно, они с растущим успехом воздвигали на место слишком расшатанного здания классических теорий остроумную и увлекательную концепцию образования цен. Почти с каждым днем все более и более оказывается плодотворным ее применение во всех почти областях экономической науки. Вслед за Вальрасом, Джевонсом и Менгером множество писателей в Америке и в Европе (за исключением, впрочем, Франции) вступило на этот путь. Снова экономические работы заполнили диаграммами, алгебраическими формулами, тончайшими рассуждениями. Столь обесславленная со времени Рикардо чистая экономия вновь обрела почет. Несмотря на живейшую оппозицию, она повсюду напрашивается на внимание. И с точки зрения экономической науки это, может быть, самое значительное явление за последние годы.
2. Параллельно с этим совершаются глубокие изменения в социализме. В предыдущей книге мы уже указывали на изменения, которым подвергались идеи Маркса у самих марксистов. Не менее чувствителен также их упадок. Социализм отказывается от претензий противополагать “рабочую" экономию "буржуазной". Необходимо, пишет в одном месте Сорель, отбросить всякие потуги превратить социализм в науку. На деле французские синдикалисты, социалисты-фабианцы в Англии, ревизионисты в Германии с большей или меньшей охотой приобщаются к научным идеям Маршалла, Парето или Бем-Баверка, но чтобы с тем большей энергией отдаться социальным и политическим требованиям социализма. Все более и более поглощают их всеобщая стачка, организация профессиональных союзов и кооперативов, муниципальный социализм по мере того, как они делаются все более и более индифферентными к теории прибавочной стоимости. Больше того, мы увидим, как некоторые из них (приверженцы национализации земли), опираясь на классическую теорию par excellence (по преимуществу) — теорию ренты, делают попытки некоторого примирения между либерализмом и социализмом.
3. Это не единственное изменение, которое можно отметить в социализме. Вместе с коллективизмом в рабочем классе господствовал авторитарный и централистический идеал. Организация коллективистов в крупную политическую партию, участвующую в некоторых странах в законодательной работе и даже в правительстве, еще более выдвигала на первый план этот характер движения. Но старый революционный и индивидуалистический дух, никогда не умиравший, особенно в латинских странах, начинает беспокоиться за такие последствия. И мы присутствуем теперь при необыкновенном возрождении либерализма в рабочем классе — либерализма, конечно, весьма отличного от либерализма основателей, более сурового и неистового в своем выражении, либерализма, от которого, без всякого сомнения, отказались бы Смит и Бастиа и который, чтобы не смешиваться с этой старой доктриной, прибавил себе tibertaire (свободы) (но от этого он не стал менее самостоятельным), — это анархизм. Либертерная, или анархистская, тенденция, бывшая уже заметной в старом Интернационале, оказывает в конце концов все более заметное влияние на рабочие классы — ею было отмечено недавнее профессиональное движение во Франции и Италии. В то же время у многих буржуазных писателей обнаруживается нечто вроде философского и морального анархизма, что, по-видимому, предрекает новый возврат к индивидуализму.
4. Наряду с этими видоизменениями в индивидуализме и социализме изученная нами в предыдущей книге под именем государственного социализма средняя доктрина тоже претерпевает метаморфозу и становится по крайней мере во Франции сояидаризмом, который старается одновременно и оправдать вмешательство государства, подводя под него новые основы, и поставить его в тесные пределы. Он пытается таким образом дать синтез индивидуализма и социализма.
Эти крупные течения мы попытаемся изобразить в последующих главах. Группируя их под названием "Новейшие доктрины", мы намеревались не столько отметить дату их зарождения (которая иноща восходит довольно далеко), сколько освежить в памяти более старые теории, выражением которых они являются. Мы, может быть, могли бы, заимствуя наименование, сделавшееся ходячим в другой области, обозначить их "модернистскими" доктринами, если бы нам не показалось неосторожным группировать под одним, слишком многозначащим заглавием столь различные концепции, которые стоят между собой лишь в хронологической связи.
