Глава V. Прудон и социализм 1848 года
Рассмотрим теперь, какое место занимает Прудон в истории экономических учений. Как и у всех социалистов, у него исходным пунктом является критика права собственности. Экономисты старательно воздерживались подвергать дискуссии это право, превращая таким образом политическую экономию в простую сводку "хозяйских рутинных навыков". Однако и в их глазах право частной собственности есть основа нашей социальной системы и причина всех несправедливостей. Прудон и начинает с нападок на собственность и ее защитников — экономистов.Но как реформировать современную систему? Чем ее заменить? В этом вся трудность. Родись 20 годами раньше, Прудон подобно многим другим, может быть, создал бы какую-нибудь утопию. Но то, что было возможно в 1820 г., стало невозможным 25 лет спустя. Общественное мнение было уже занято самыми разнообразными социалистическими системами. Оуэн, сенсимонисты, Фурье, Кабэ, Луи Блан — все они предлагали свои средства; почти все новые пути, доступные фантазии реформаторов, были испробованы раньше негр. Прудон знает обо всех этих попытках, проверяет их и заключает, что все они приводят в тупик. И вот таким образом к критике экономистов присоединяется критика социализма.
В том-то и дело, как найти выход, исправить пороки частной собственности и в то же время не впасть в то, что Прудон называет "неизлечимой глупостью" социализма. Он питает инстинктивное отвращение к утопиям и не любит тех изобретателей, которые смотря на общество как на машину, думают, что достаточно открыть какой-нибудь остроумный "трюк", чтобы исправить все шероховатости в машине и пустить ее в ход. У него социальная жизнь есть беспрерывный прогресс1. Он знает, что нужно время для примирения сталкивающихся в обществе противоположных сил. Разрешением этой трудной задачи был занят Прудон, коща вспыхнула революция 48-го года. Отдавшись революционной деятельности, Прудон почувствовал необходимость облечь свои идеи в конкретную, обязательную форму. Критика должна стать творческим началом, и он в свою очередь почти вопреки своей юле выковывает утопию — банк обмена.
В реформе обращения товаров Прудон думает найти разрешение вопроса, которое другие искали в потрясениях производства или распределения. Остроумная идея, она заслуживает того, чтобы остаться в истории доктрин, потому что наряду с ошибками заключает в себе кое-что верное и потому еще, что банк Прудона является прототипом целого ряда подобных проектов, которые нельзя было бы обойти молчанием. Этой концепции мы будем касаться здесь, оставив в стороне идеи Прудона как философа, моралиста и государствоведа-теоретика. Последние представляют тоже немалый интерес, но они касаются нас постольку, поскольку они влияли на Прудона как на экономиста.
§ 1. Критика собственности и социализма
Произведение, быстро сделавшее Прудона известным, появилось в 1840 г. под заглавием "Qu’est-ce que la proprieteV ("Что такое собственность?").
Прудону был тоща 31 год. Родившись в Безансоне в семье бедного пивовара2, он должен был с ранних лет зарабатывать себе кусок хлеба. Будучи сначала корректором в типографии, а потом типографщиком, он весь досуг свой посвящал чтению книг, на которые набрасывался без всякого разбора, побуждаемый лишь необузданной жаждой знаний. Зрелище социальных зол живо поражало его душу. Он принялся за изучение экономических вопросов со всем пылом молодости, со всем энтузиазмом человека из народа, говорящего от имени своих "братьев", и со всей безграничной верой своего удивительно искреннего сердца в победоносную силу логики и здравого смысла. Все это отразилось в его произведении, блещущем образным стилем и полным "вызывающей дерзости", которую С.Бов отметил как одну из характерных черт Прудона, встречающуюся во всех его произведениях. С первой же страницы он бросает своим читателям знаменитую фразу, резюмирующую всю книгу: "Собственность — это кража".
Что нужно понимать под этим? Признает ли Прудон всякую собственность продуктом кражи? Осуждает ли он присвоение само по себе, единственный факт владения? Широкие круги общества так именно и поняли, и нельзя, пожалуй, отрицать, что Прудон не рассчитывал на смятение среди буржуа. Но не так надо ее понимать. Частная собственность, свободное распоряжение плодами своего труда и сбережения есть в его глазах "существо свободы", это по существу "автократия человека над самим собой". Что же он ставит в упрек собственности? Только право, которое она дает собственнику на получение нетрудового дохода. Не собственности самой по себе, a "droit d’aubaine" ("праву добычи") собственников Прудон вслед за Оуэном, английскими социалистами и сенсимонистами шлет проклятия, тому самому "праву добычи", которое, смотря по обстоятельствам и предметам, последовательно получает название ренты, аренды, платы, процента, барыша, ажио, дисконта, комиссии, привилегии, монополии, премии, совместительства, синекуры, взятки и тд.
Ибо вместе со всеми социалистами, его предшественниками, Прудон признает производительным3 только труд. Без труда и земля, и капиталы остаются непроизводительными. Отсюда: "Собственник, требующий премии за свои орудия труда и за продуктивную силу своей земли, предполагает наличие абсолютно неправильного положения, что капиталы сами могут что-нибудь производить, и, заставляя других вносить ему этот воображаемый продукт, он буквально получает кое-что за ничто".
Бэт в этом заключается кража. Поэтому он определяет собственность как "право по своей воле пользоваться и распоряжаться благом других, плодом ремесла и труда других".
Положение не новое, а после Прудона к нему будут возвращаться еще много раз, между прочим, и Родбертус. Оригинальность книги заключается не столько в идеях, сколько в блестящем изложении, в запальчивости его стиля и в пламенности его полемики против устарелых аргументов тех, кто основывает собственность нынешнего времени на труде, или на естественном праве, или на завладении4. Один немецкий писатель основательно заметил, что, появись эта книга в Германии или в Англии, она осталась бы незамеченной, потому что в обеих этих странах собственность защищалась более научными доводами, чем во Франции. Вся ее сила проистекла из слабости аргументов противников. Этого слишком достаточно, чтобы уронить достоинство книги. Сочинение о собственности было "пистолетным выстрелом", на который все оглядываются на улице. Он сделал для французского социализма то, что впоследствии Лассаль сделает для немецкого. Он сеял идеи, которые не блистали новизной, но он облекал их в такие формулы, что они заражали необыкновенной силой проникновения.
Все-таки в ней встречаются отдельные остроумные взгляды, из которых один заслуживает того, чтобы остаться в памяти, если не за правильность свою, то, во всяком случае, за свою оригинальность. Все социалисты-теоретики задаются вопросом, как совершаемое собственниками и капиталистами беспрерывное ограбление может практиковаться изо дня в день, не вызывая возмущения среди трудящихся и даже, по-видимому, оставаясь часто незамеченным ими? Не кажется ли это несколько невероятным? Проблема, действительно, интересная и подходящая для упражнения в остроумии. Маркс решил ее своей теорией прибавочной стоимости; Родбертус еще проще — противопоставлением экономического раздела, реализованного в обмене, социальному ограблению, скрывающемуся за его кажущейся справедливостью. Прудон решает ее по-своему. По его мнению, между хозяином и рабочим происходит постоянная "ошибка в счете". Хозяин уплачивает каждому рабочему ценность его индивидуального труда, но оставляет для себя продукт коллективной силы всех рабочих; этот продукт выше того, что могла бы доставить сумма всех их индивидуальных сил. Это дополнение есть прибыль. "Капиталист, говорят, уплатил за дни рабочих; для точности следовало бы сказать, что капиталист уплатил столько раз за один день, сколько он занимал рабочих, что совсем не одно и то же. Ибо вовсе не оплачивается та огромная сила, которая происходит от соединения и гармонии рабочих, от дружного и одновременного приложения их усилий. Двести гренадеров в несколько часов поставили на основание Люксорский обелиск, можно ли предположить, что один человек сделал бы то же самое в двести дней? Однако, по расчету капиталиста, сумма заработных плат была бы одна и та же". Таким образом, рабочий считает оплаченным свой труд, а на самом деле его оплатили только отчасти, и потому, "даже получив свою заработную плату, он сохраняет право собственности на произведенную им вещь". Тонкое объяснение, но тем не менее ошибочное.
Тотчас же после опубликования памфлет сделал Прудона известным не только широкой публике, которая знала лишь его громкие формулы, но среди экономистов. Многие из них, между прочим Бланки и Жозеф Гарнье, сильно заинтересовались его талантом. "Невозможно, — писал ему первый, — питать больше уважения к человеку, чем я питаю к вам". Своим благоприятным отзывом о книге перед Академией моральных наук он приостановил преследования, которые хотел возбудить против нее министр внутренних дел. Позже, в 1846 г., по совету Гарнье, весьма привязанный к экономической ортодоксии издатель Гийомен согласился издать новую книгу Прудона"Systeme des contradictions economiques, ou Philosophic de la misere" ("Система экономических противоречий, или Философия нищеты"), не без некоторой, впрочем, тревоги.
Такая симпатия к Прудону легко объяснима. Ибо если уже с первого памфлета экономисты нашли в Прудоне своего сильного критика, то все-таки нетрудно было им открыть в нем не менее решительного противника социалистов. Рассмотрим вкратце его отношение к последним.
Никто не употреблял, критикуя социализм, более резких выражений, чем Прудон. "Сенсимонисты прошли, как в маскараде". Система Фурье — "величайшая мистификация нашего времени". Коммунистам он шлет следующую брань: "Прочь от меня, коммунисты; от вашего присутствия разит зловонием и при виде вас я чувствую отвращение". В другом месте он заявляет: "Социализм ничто, ничем не был и никогда ничем не будет". Его жестокость по отношению к предшественникам, впрочем, объясняется не чем иным, как боязнью быть смешанным с ними. Это прием, чтобы насторожить читателя против всякой двусмысленности и лучше подготовить его к оценке его собственных решений, точно отграничив то, что неприемлемо в их теории.
Что же ставит он им в упрек? То, что они, чтобы избавиться от существующего строя, до сих пор не сумели ничего иного сделать, как обратиться к прямой противоположности его. Трудность поставленной проблемы заключается не в том, чтобы уничтожить существующие экономические силы, а в том, чтобы установить равновесие между ними.
Дело не в том, чтобы уничтожить эти "истинные экономические силы", каковыми являются "разделение труда, коллективная сила, конкуренция, кредит, даже собственность и свобода", а, наоборот, в том, чтобы сохранить их и оградить от всякого вреда. Социалисты же думают только об уничтожении их.
На место конкуренции социалисты хотят поставить ассоциацию и организацию труда; на место свободной игры личного интереса — страсти, как у Фурье, любовь и преданность, как у сенсимонистов, или братство, как у Кабэ. Прудона ничто из всего этого не удовлетворяет.
Он находит ассоциацию и организацию труда противными свободе трудящегося и отвергает их. Предполагаемая у них мощь проистекает исключительно из "коллективной силы и разделения труда". Свобода является экономической силой по преимуществу. "Экономическое совершенство состоит в абсолютной независимости трудящихся, равно как политическое совершенство — в абсолютной независимости граждан". "Свобода — вот вся моя система, — говорит он в 1848 г. в воззвании к своим избирателям, — свобода совести, печати, труда, торговли, образования, конкуренции, свободное распоряжение плодами своего труда и своего ремесла, свобода бесконечная, абсолютная, повсюду и всегда". Это, прибавляет он, "система 89-го и 93-го годов, система Кенэ, Тюрго, Ж.Б.Сея". Не слышится ли здесь, действительно, голос классического экономиста, хвастающегося благодеяниями свободной конкуренции.
Не менее энергично отвергает Прудон коммунизм как юридический строй. Речь идет у него не об уничтожении собственности как необходимого стимула труда, условий семейной жизни, необходимой для всякого прогресса. Речь идет только о том, чтобы сделать ее безвредной, и, даже еще лучше, о том, чтобы предоставить ее в распоряжение всех. Коммунизм был бы лишь строем собственности навыворот. "Общность есть неравенство, но в смысле, обратном тому, в каком существует ныне неравенство в строе частной собственности. Собственность есть эксплуатация слабого сильным, а общность собственности есть эксплуатация сильного слабым"5. Это все то же воровство. "Общность имуществ, — восклицает он, — есть религия нищеты". "Между строем частной собственности и коммунизмом я воздвигну иной мир".
Что же касается преданности или братства как принципов деятельности, то он тоже не хочет допустить их, ибо они предполагают самопожертвование, подавление человека человеком. Люди равны в своих правах, и правилом их взаимных отношений может быть лишь справедливость. Это аксиома, и она кажется Прудону столь очевидной, что он даже не пытается доказывать ее. Ему важно только определить, что такое справедливость. "Это, — говорит Прудон в "Premier Memoire sur la propriete" ("Первый доклад о собственности"), — признание в других равной нам личности"; и дальше: "Справедливость есть самопроизвольно испытываемое и взаимно охраняемое уважение человеческого достоинства во всякой личности и при всяких обстоятельствах, какие ни грозили бы ее нарушением, и перед лицом всякой опасности, какой мы ни подвергались бы при защите ее".
Она, следовательно, равнозначна равенству. Если мы применим это определение к экономическим отношениям людей, то найдем, "что принцип взаимности уважения логически превращается в принцип взамности услуг". Реализовать эквивалентность услуг —такова потребность людей; только благодаря этому будет уважаться равенство. "Делай для других то, что ты хочешь, чтобы тебе делали", — этот принцип вечной справедливости на экономическом языке выражается во взаимности и взаимодействии услуг. Взаимность, или mutuettisme (мутуализм), — таков новый принцип, который должен нами руководить в организации экономических отношений общества.
Таким образом, критика социализма ведет Прудона к выяснению положительных основ своей системы, и теперь вместе с тем становится ясно, в каком новом виде ставится перед ним социальная проблема; она состоит, с одной стороны, в уничтожении "нетрудового дохода" собственности, так как этот доход есть отрицание принципа взаимности услуг; с другой стороны, она состоит в охранении собственности, свободы труда и торговли. Иными словами, нужно уничтожить основной атрибут собственности, но не затрагивать ни собственности, ни свободы.
Но не есть ли это квадратура круга? Уничтожение нетрудового дохода не предполагает ли обращение орудий труда в общую собственность? Прудон не думает этого. До сих пор думали, что собственность можно реформировать, введя изменения в производство или распределение богатств. Об обмене не думали. Но ведь в обмене услуг проскальзывает неравенство, следовательно, надо добиваться реформы обмена. Но какой? В конце "Экономических противоречий" она проглядывает у него еще в очень туманных очертаниях. Заявив, что "больше ничего не остается, как вывести общее уравнение всех наших противоречий", он спрашивает: какова будет формула этого уравнения? "Она уже становится доступной нам, она должна быть законом обмена, теорией взаимности... Теория взаимности (mutuum), т.е. натуральный обмен, есть с точки зрения коллективного существа синтез двух идей — собственности частной и коммунистической". Но он не дает более точных указаний. В одном письме, написанном после "Экономических противоречий", он представляется все еще простым "искателем", подготовляющим новую работу, іде эти предложения будут развиты.
В то время как он готовился вступить на путь активной практической пропаганды своих идей в газетах, наступила революция 1848 г., которая вовлекла его в гущу партийной борьбы и поторопила его обнародовать свои идеи.
Тут необходимо сказать несколько слов об этой революции, чтобы лучше указать место, какое в ней занимают идеи Прудона, и пояснить, как они связываются с совокупностью социалистических экспериментов в эту эпоху.
8 2. Революция 1848 гола и разочарование в социализме
Революция 1848 г. доставила социалистам всех оттенков, проповедовавшим с 1830 по 1848 г. радикальные реформы, единственный случай соединить практическую деятельность с теорией. В течение четырех месяцев (с февраля по июнь), предшествовавших кровавому подавлению социальной республики буржуазной, возможные проекты, годами дискутировавшиеся в книгах и газетах, казалось, были близки к осуществлению. В течение нескольких недель в этом, по-видимому, не было ничего невозможного. "Право на труд", "организация труда", "ассоциация" — все эти формулы, казалось, по мановению жезла превратятся в действительность.
Несколько энтузиастов приложили все свои силы к проведению их в жизнь, но — увы — только для того, чтобы немедленно прийти к самым горьким разочарованиям. Подвергнутые испытанию, все формулы оказываются пустыми. Недоброжелательство одних, нетерпение других, неумение и поспешность самих инициаторов мало-помалу выставляют все эти эксперименты на посмешище или презрение общества. Усталое общественное мнение в конце концов кладет на имена всех реформаторов одну лишь печать осуждения.
Для истории социальных идей 1848 год является памятной датой. Идеалистический социализм Сен-Симона, Фурье, Луи Блана дискредитируется, по-видимому, окончательно. В глазах буржуазных писателей он раздавлен навсеща. Рейбо, редактировавший в 1852 г. для "Dictionnaire d'Economie politique" ("Словарь политической экономии") Коклена и Гийомена статью "Социализм", писал: "Говорить о нем — почти что произносить надгробную речь... Силы исчерпаны, вдохновение истощилось. Если дух заблуждения вновь еще одержит верх, то это будет в иной форме и с иными иллюзиями".
В глазах последующих социалистов он не найдет лучшей оценки. После Маркса всех его предшественников свалят в одну кучу под немного презрительным титулом "утопистов" и в противовес их фантазиям выдвинут "научный социализм""Капитала". Между обоими этими учениями есть некоторая трещина, и эта трещина — 1848 год. Посмотрим, как это произошло, и с этой целью кратко проанализируем важнейшие из этих поспешных экспериментов.
Прежде всего право на труд. Эта формула Фурье, развитая Кон-сидераном, воспринятая Луи Бланом и многими демократами, становится в царствование Луи-Филиппа крайне популярной. Прудон назвал ее "истинной и единственной формулой февральской революции". Он говорил: "Дайте мне право на труд, и я оставлю вам собственность".
По мнению рабочих, первой обязанностью временного правительства является осуществление этой формулы. 25 февраля под давлением незначительной группы парижских рабочих, пришедших в городскую думу, правительство поспешило признать ее. Редактированный Луи Бланом декрет начинался так: "Временное правительство Французской республики ставит себе в обязанность обеспечить существование рабочего трудом. Оно ставит себе в обязанность гарантировать труд всем гражданам". На следующий день для освящения нового принципа декрет возвещал о немедленном устройстве национальных мастерских. Чтобы быть допущенным в них, достаточно было записаться в одной из мэрий Парижа.
Луи Блан в своей книге от 1841 г. требовал создания социальных мастерских. Общественное мнение, обманутое аналогией названий и поддерживаемое противниками социализма, думало увидеть в национальных мастерских дело его рук. Нет ничего более неправильного. Социальные мастерские были, как известно, производительными кооперативами, а национальные мастерские были просто мастерскими для занятия безработных. Такие мастерские много раз основывали в эпохи кризиса (в 1790 и в 1830 гг.) под названием благотворительных мастерских. Не Луи Блан, впрочем, а Мари, министр общественных работ, организовал их. Далекое от того, чтобы сделать социалистическое дело, временное правительство, наоборот, очень быстро сообразило превратить их в средство рекру-тировки рабочих с целью нанести удар социалистическим тенденциям комиссии Люксембургского дворца, председателем которой, как мы увидим, был Луи Блан. Во главе мастерских поставили одного из отъявленных противников их, инженера Эмиля Тома, который сам рассказывал в 1849 г. в своей"Histoire des ateliers nationaux" ("Истории национальных мастерских"), в каком направлении он вел руководство над ними и что он был солидарен в этом отношении с антисоциалистическим большинством временного правительства.
Но эти расчеты быстро потерпели крушение. Тот, кто рассчитывал использовать национальные мастерские в интересах своей политики, был опережен событиями. Революция чрезмерно увеличивала число безработных, и без того уже огромное вследствие экономического кризиса 1847 г. Кроме того, открытие мастерских привлекло в Париж безработных из провинций. Вместо ожидавшихся 10 000 в конце марта записалась 21000, а в конце апреля — 99 400 рабочих. Им платили по 2 франка в день, коща они работали, и по одному франку, когда не было работы. Немного времени спустя уже не знали, куда их деть. Большинство из них, к какой бы профессии они не относились, были заняты бесполезными земляными работами, которых тоже скоро стало не хватать. Недовольство проскользнуло в эту армию несчастных, унижаемых вздорным трудом и неудовлетворенных скромной заработной платой, которая, однако, была выше ценности затраченного ими труда. Мастерские сделались очагом политической агитации. Само правительство, испуганное и понуждаемое национальным собранием, носилось с одной только мыслью — как бы их распустить.
Вдруг 21 июня издается приказ всем молодым людям в возрасте от 17 до 25 лет, записавшимся в мастерские, или поступить в армию, или отправиться в провинцию, где их ждали новые земляные работы. Раздраженные до крайности рабочие заволновались. 23 июня вспыхнуло восстание. Подавленное в три дня с тысячами жертв, оно повергло всю страну в бездну террора и реакции.
Простоватая логика политических партий сделала ответственным за этот несчастный опыт принцип права на труд. Он оказался благодаря этому окончательно дискредитированным. К нему возвратились, когда в национальном собрании начались дебаты о конституции. За несколько дней до восстания проект конституции, предложенный 19 июня Арманом Марра, признавал еще право на труд: "Конституция, — говорит вторая статья, — гарантирует всем гражданам свободу, равенство, безопасность, образование, труд, собственность, призрение". Но в новом проекте, предложенном 29 августа, статья эта исчезла. Только право на призрение было признано. Во время обсуждения этой статьи Матвеем Деладромом была внесена поправка, восстанавливающая право на труд. Открылись шумные дебаты, в которых Тьер Ламартин, Токвиль отвергали поправку, а республиканцы-радикалы Ледрю-Роллен, Кремье, Матвей Дел ад ром защищали ее. Социалисты молчали: Луи Блан был в изгнании, Консидеран болен, Прудон боялся встревожить своих противников и скомпрометировать своих друзей. Мнение собрания, впрочем, уже заранее составилось: поправка была отвергнута, и статья восьмая общих положений конституции 1848 г. имеет такой вид: "Республика должна братским призрением обеспечить существование нуждающихся граждан, либо доставляя в пределах своих ресурсов, либо оказывая за отсутствием семьи помощь тем, которые не в состоянии работать".
Во время июльской революции организация труда была не менее популярной формулой, чем право на труд. Когда разразилась революция, рабочие требовали реализации ее с одинаково грозной настойчивостью. По счастливой случайности творец формулы был членом временного правительства. Поэтому, когда 28 февраля, три дня спустя после признания права на труд, рабочие массами пришли требовать "создания министерского прогресса, организации труда, уничтожения эксплуатации человека человеком", Луи Блан немедленно воспользовался случаем и умолял своих коллег уступить, несмотря на их несогласие, желаниям рабочих. Разве он сам не требовал для власти инициативы в социальных реформах? Как же мог он, вознесенный революцией к власти, уклониться от этой ответственности? С большим трудом коллеги убедили его ограничиться простой "правительственной комиссией для рабочих", которая под его председательством будет готовить проекты реформ, идущие впоследствии на усмотрение национального собрания. Чтобы лучше отметить контраст между старым и новым режимом, комиссию поместили в Люксембургском дворце, где до того времени заседала палата пэров.
Люксембургская комиссия составлялась из представителей рабочих и хозяев, избираемых в числе трех от каждого ремесла. Эти представители, которых было очень много, собирались на общие собрания для обсуждения докладов, подготовленных постоянным комитетом из 10 рабочих и 10 хозяев, к которым Луи Блан присоединил либеральных экономистов и социалистических писателей: Ле Плея, Дюпона-Уайта, Воловского, Консидерана, Пекера, Видаля. Прудон отказался принять участие. Фактически в собраниях заседали почти исключительно рабочие.
Хотя комиссия и была фактически бессильной, однако она могла бы оказать некоторые услуги. Но Луи Блан видел в ней, как он говорил впоследствии, главным образом "удобный случай для социализма иметь в своем распоряжении трибуну для того, чтобы говорить с нее ко всей Европе". Продолжая свою роль оратора и писателя, он посвятил большую часть заседаний красноречивому изложению своих теорий, развитых уже в "Организации труда". Видаль и Пекер были обязаны выработать положительные проекты. В пространном "Expose" ("Изложение"), появившемся в "Moniteur’e" ("Монитор"), они предложили целый план государственного социализма: мастерские или земледельческие колонии, государственные склады, базары с магазинами для продажи, дающими благодаря варрантам возможность получать ссуды под товар, централизация страхований (кроме страхования жизни) в руках государства, наконец, превращение французского банка в государственный, который демократизировал бы кредит и свел бы норму дисконта до простой страховой премии за риск. Большая часть редакции доклада принадлежит Видалю. В нем встречаются некоторые проекты, изложенные им ранее в его книге “De la repartition des richesses" ("О распределении богатств"). Ни один из этих проектов не подвергался даже обсуждению в национальном собрании. Единственное положительное дело комиссии и Луи Блана, сделанное ими под давлением рабочих, — известный декрет от 2 марта, уничтожающий посредничество в форме подрядчиков и уменьшающий рабочий день до 10 часов в Париже и до 11 часов в провинции. Этот декрет — один из первых зачатков французского рабочего законодательства, впрочем, никогда не применявшийся на практике; он был вырван у Луи Блана настойчивыми требованиями первых представителей от рабочих в комиссии, которые отказывались заседать в ней до тех пор, пока не будет удовлетворено их требование. Нужно также вписать в ее актив несколько случаев удачного улаживания конфликтов между рабочими и хозяевами.
Комиссия не только не сделала ничего основательного, но и вскоре навела страх на общество, выродившись в политический клуб. Она занималась выборами, вмешивалась даже в уличные волнения и, наконец, участвовала в манифестации 15 мая, которая под предлогом вмешательства в пользу Польши привела к заполнению национального собрания толпами народа. Луи Блан ретировался, не дожидаясь этого события. Он не входил уже в состав правительства, которое после созыва национального собрания было заменено исполнительной комиссией, и 13 мая подал в отставку как председатель комиссии. С того времени на Люксембургскую комиссию смотрели как на распущенную. Таким образом, подобно национальным мастерским, она исчезла, изнемогая от собственной беспомощности и не оставив иного следа, кроме компрометирующей тени, брошенной на социалистические идеи.
Осталось еще рассмотреть работе ассоциации. Принцип ассоциации был общим пунктом у всех социалистических теорий, зародившихся в первой половине столетия. Все реформаторы, за исключением Прудона, всеща стоящего особняком, ревностно проповедовали его как специфическое орудие эмансипации трудящихся. Было естественно испробовать его на практике в широком масштабе.
В декларации от 26 февраля временное правительство наряду с правом на труд провозгласило, что "рабочие должны составлять союзы между собой, чтобы пользоваться выгодами от своего труда", и Луи Блан по вступлении во власть старался направить их усилия в этом направлении. Он представлял себе ассоциацию в форме производительных кооперативных обществ при поддержке государства. Мы уже видели, что под влиянием Бюшеза, бывшего сенсимониста, республиканца и католика, основателя газеты "Atelier" ("Мастерская"), была создана в 1834 г. "ассоциация золотых дел мастеров". Но эта попытка осталась одинокой. Луи Блан был более счастлив. Он последовательно основал ассоциацию портных, затем седельников, прядильщиков и позументщиков, для которых получил от правительства заказы на туники, на седла, на эполеты. За ними возникли другие ассоциации, и 5 июля национальное собрание настолько заинтересовалось этими опытами, что по собственной инициативе вотировало кредит в 3 миллиона. Из этой суммы добрая доля пошла простым смешанным ассоциациям из хозяев и рабочих, основанным с целью спекуляции на щедрости правительства. Все-таки чисто рабочие ассоциации получили более одного миллиона, и в 1848 г. существовало около 100 таких ассоциаций.
Но это первое кооперативное движение, вдохновленное идеями
Луи Блана, продолжалось недолго. Национальное собрание озаботилось подчинением новых обществ министерскому контролю, обязав особую комиссию содействия, назначенную министром, определить условия ссуд; эта комиссия поспешила опубликовать образцовый устав, который оставлял ассоциациям мало свободы в их внутренней организационной деятельности. Многие быстро оказались на краю гибели за недостатком заказов. После государственного переворота должны были распустить себя все те ассоциации, которые не приняли одной из трех предусмотренных статьей 19-й торгового кодекса форм (товарищества, коммандитного общества или анонимного). Таким образом, к 1855 г., по словам Рейбо, оставалось не больше 9 ассоциаций, получивших пособия в 1848 г. Некоторые потребительские кооперативы, или, как тоща говорили, "ассоциации для удешевления жизни", которые были в Париже, в Лилле, в Нанте, Гренобле, тоже были распущены.
Таким образом, и эти попытки (единственные, которые не компрометировали непосредственно дела реформ) потерпели неудачу. Они исчезли отчасти благодаря политическим обстоятельствам, отчасти благодаря ошибкам самих основателей, еще плохо подготовленных к трудному делу организации ассоциаций. Они оставили в рабочем классе воспоминание о крупных неудачах и вселили в него глубокое отчаяние.
Социалистические эксперименты 1848 г. померкли один за другим, унося с собой при своем крушении теории их вдохновителей. Оставалось сделать еще одну попытку, а именно ту, с которой связал свое имя Прудон, — мы говорим о даровом кредите. Ему выпадет на долю не большая, чем другим, удача.
§ 3. Теория банка обмена
Революция 1848 г. не застала Прудона врасплох. Но она пришла, по его мнению, слишком рано. Он очень хорошо отдавал себе отчет, что основная проблема, которую ей предстояло разрешить, была скорее экономического характера, чем политического. Но он не скрывал от себя, что массы народа еще недостаточно воспитаны, чтобы допустить мирное разрешение ее. Ведь Прудон, уподобляясь в этом отношении всем французским социалистам своего времени, грезил о мирном разрешении социального вопроса. Он называет февральскую революцию "недоношенным ребенком". И в одном блестящем месте в газете "Le Peuple" ("Народ") Прудон изложил свои сетования, когда, предчувствуя приближение революции, он отдавал себе отчет в том, что ни у кого нет "ни ключа, ни здания".
"Я плакал над бедным трудящимся, которого я заранее видел обреченным на безработицу, на нищету в течение многих лет, над трудящимся, защите которого я посвятил себя и которому я был бессилен помочь. Я плакал над буржуазией, которую я видел гибнущей, гонимой к банкротству, возбуждаемой против пролетариата и против которой антагонизмы идей и фатальное стечение обстоятельств заставят меня бороться, тоща как я больше, чем кто-либо, расположен жалеть ее. До рождения республики я носил траур по ней, и я совершал искупление республики... Эта разразившаяся в общественном строе революция была исходной датой для социальной революции, о которой никто ничего не говорил”.
Но раз революция началась, Прудон не чувствовал за собой права отставать. Он критиковал резко, как никто, существующий строй. Он почитал своим долгом помочь практическому разрешению вопросов, неожиданно поставленных перед обществом. В качестве журналиста он бросается в гущу борьбы. До тех пор он ограничивался указанием в неопределенных выражениях, в каком направлении он видит выход из создавшегося положения. Теперь же дело шло о том, чтобы указать осуществимую реформу и начертать обязательные контуры ее. Он изобрел банк семена.
Прудон дал многочисленные описания банка обмена в брошюрах, газетах, книгах, но не всегда согласные между собой. Не очень легко определить его подлинную мысль, и этим объясняется, что его так часто плохо понимали. Попытаемся все-таки резюмировать ее. К критике ее мы обратимся впоследствии. Сравнив проект Прудона с аналогичными, сформулированными до и после него проектами, мы лучше выясним оригинальный характер его.
Основной принцип, на котором покоится весь проект, следующий.
Из всех капиталов, позволяющих их владельцам взимать с продукта трудящегося премию под названием процента, ренты, дисконта, самым важным является денежный капитал, потому что все капиталы в конце концов предлагаются на рынке в форме денег. Если бы, следовательно, нам удалось уничтожить право добычи у этой всеобщей формы капитала, если бы, другими словами, деньги ссужались даром, то право добычи тотчас исчезло бы для всех других капиталов.
Действительно, предположите, что с помощью какой-нибудь организации я могу достать себе, не уплачивая процента, деньги, необходимые на покупку земли, машин и построек, существенных для моего производства, и я поспешу приобрести эти деньги, вместо того чтобы занимать их за известный процент или арендную плату, как я вынужден это делать теперь. Таким образом, уничтожение процента, позволяя трудящемуся занимать деньги даром, непосредственно приобретать все полезные капиталы, вместо того чтобы занимать их, тем самым помешает всем держателям капиталов получать нетрудовой доход. Собственность таким образом была бы сведена ко владению. Обмен был бы отмечен характером взаимности, потому что трудящийся получал бы весь продукт своего труда, не делясь им ни с кем. Экономическая справедливость была бы наконец осуществлена.
Но, конечно, спросят: как же достать необходимые деньги без процента? В этом вся суть.
Поразмыслите, отвечает Прудон, над тем, что такое деньги. Что такое деньги, как не боны обмена/ предназначенные исключительно для облегчения товарообмена. Дав раньше понятие денег как капитала по преимуществу, Прудон здесь вдруг начинает смотреть на них лишь как на орудие обмена. "Деньги сами по себе для меня бесполезны. Я их беру только для того, чтобы расходовать, я не потребляю и не развожу их". Это агент обмена, и процент, который я уплачиваю за них, оплачивает именно эту их функцию. Но ведь бумага могла бы выполнить эту функцию столь же хорошо и дешевле. Ныне банк выдает векселедержателям металлические деньги, в которых они нуждаются, или билеты, обмениваемые на такие деньги. В обмен за эту услугу он получает определенный дисконт для вознаграждения акционеров, которые дали ему капитал. Организуем банк без капитала, который подобно французскому банку будет дисконтировать векселя с помощью билетов, бон обращения или бон обмена, но билеты эти не будут обмениваться на металлические деньги, и, следовательно; деньги почти ничего не будут стоить банку, коль скоро у него не будет основного капитала, за который нужно было бы уплачивать процент.
Чтобы эти билеты циркулировали, достаточно всем членам нового банка согласиться принимать их в платеж за свои товары. Благодаря этому держатель их всегда будет уверен в том, что он сможет обменять их все равно как металлические деньги. С другой стороны, члены банка ничем не будут рисковать, принимая их, так как банк (это будет определено его уставом) будет дисконтировать лишь векселя, представляющие отпущенные товары или такие, которые будут поставлены. Таким образом, боны обращения никоща не будут выходить за пределы потребностей торговли; они будут представлять всегда не только произведенные товары, но уже и проданные (хотя еще и не оплаченные). Банк подобно всякому дисконтному панку будет авансировать продавца товара суммой, которая потом будет погашена покупателем. Впрочем, купцы и промышленники будут получать таким образом без процента не только оборотный капитал, но и средства, необходимые для основания новых предприятий, в форме авансов (без процентов, разумеется), которые позволят им покупать, вместо того чтобы нанимать, их орудия труда.
Последствия такой реформы будут неисчислимы. Благодаря капиталам, предоставляемым даром в распоряжение всех и каждого, не только осуществится "слияние классов", потому что останутся только трудящиеся, обменивающиеся продуктами по своей цене, но и правительство станет бесполезным. Ибо правительство постольку необходимо, поскольку существуют притеснители и притесняемые, сильные и слабые. Ныне оно существует для того, чтобы "положить конец их взаимной борьбе ярмом общего угнетения". Но коіда справедливость будет гарантирована при обмене, коща будет достаточно свободного договора для обеспечения ее, тоща все будут равны, одинаково покровительствуемы и источники конфликтов исчезнут. "Раз капитал и труд будут отождествлены, общество может существовать самостоятельно и не нуждаться в правительстве". Правительственная система "сплавится, сольется" с экономической системой. Это будет анархия, отсутствие правительства.
Таков проект Прудона с его последствиями.
Чтобы понять, выясним два вопроса: 1) осуществима ли на практике замена банковских билетов бонами обмена; 2) предполагая, что она осуществима, получатся ли от бон результаты, которых ожидает наш автор.
1. Прудон представляет свою систему просто как средство обращения векселя. Это верно. Банк обмена будет ставить свою подпись на векселе, который он учитывает. Но ведь и ныне тот, кто выдает банковский билет, ничего другого не делает. Вместо векселя, который он покупает и который имеет лишь ограниченное обращение, потому что векселедатель имеет ограниченный кредит, французский банк выдает билет за своей подписью, всем известной, пользующейся почти неограниченным кредитом. Чем же боны обращения Прудона отличаются от банковских билетов? Только тем, что банк к своей подписи прибавляет обещание возместить валюту в металлических деньгах, т.е. в товаре, всеми принимаемом и спрашиваемом, между тем как к подписи банка обмена Прудон не прибавляет никакого особого обязательства банка — он только обещает, что его члены примут боны в уплату.
Теоретически разница может показаться незначительной, потому что в обоих случаях платежеспособность векселедателей есть истинная гарантия как банковского билета, так и бон обмена. Но практически она громадна. Уверенность обменять билет на звонкую монету сообщает ему широкое, распространение, делает возможным принятие его массой неизвестных лиц, которые принимают его из одного доверия к банку. Для них важно только знать о платежеспособности последнего. Но боны обращения помимо того, что они дают право только на определенные товары (товары членов банка), предполагают, что владелец их имеет доверие ко всем членам банка, доверие, основательность которого ему трудно доказать. Поэтому такие боны будут обращаться только между членами банка, но не будут захватывать всей публики, как это делает настоящий банковский билет. Но сами члены банка будут выполнять свои обязательства только при условии, если банку обмена, дисконтирующему всегда лишь солидные векселя, не придется от-называть платить в срок. Иначе боны обмена будут оставаться в обращении, вместо того чтобы правильно поступать в банк. Но чуть разразится кризис, многое члены станут неплатежеспособными, а номинальная ценность всех бон обмена очень быстро превзойдет ценность представляемых ими товаров. Товары тотчас упадут в цене, и сами члены банка будут отказываться принимать их. Таким образом, можно себе представить осуществимость обращения бон обмена, но это обращение никоща не выйдет из очень узкого круга людей и необходимым условием предполагает почти полную платежеспособность членов банка.
2. Предположим, однако, что такие условия практически существуют и что боны обмена пущены в обращение. Исчезнет ли от этого процент? Ни в малейшей степени, и в этом существенный порок всей концепции.
Почему французский банк получает дисконт? Потому ли только, как утверждает Прудон, что он доставляет звонкую монету в обмен на вексель, так что это "господское право, называемое дисконтом" и являющееся лишь результатом пользования металлическими деньгами, должно будет исчезнуть вместе с этим пользованием? Неверно. Если банк требует дисконт, то это он делает потому, что сейчас же доставляет в форме непосредственно обменивающегося товара ценность векселя, который реализуется только через несколько месяцев; потому, что он дает нечто реальное в обмен на обещание, настоящее благо в обмен на благо будущее? Банк получает разницу между ценностью векселя в день, когда он его дисконтирует, и ценностью его в день его срока, и разница эта проистекает не из воли банка или употребления тех или иных денег, но из самой природы вещей. Чтобы ни делал Прудон, но продажа за наличные и в кредит составляет и будет составлять две различные операции, и обладание благом в настоящем всегда будет считаться более выгодным, чем обладание им в будущем.
Такая разница очень быстро появится и при существовании банка обмена и вот каким образом. Все боны обращения будут представлять товары, проданные в кредит. То обстоятельство, что банк будет отказываться получать дисконт, не уничтожит выгоды, которую будут иметь купцы от наличного расчета. Чтобы сохранить эту выгоду, они будут соглашаться выдавать своим покупателям за наличный расчет, т.е. покупателям, которые будут платить непосредственно товарами или драгоценными металлами (которые тоже товар), небольшую надбавку на проставленные в бумаге цены, и таким образом очень скоро установятся два ряда цен: цены в бумаге для продажи в кредит и цены в металле для продажи за наличный расчет. Первые будут выше вторых, и разницу, которую меновый банк будет отказываться получать, получат сами продавцы. Процент на деньга таким образом снова появится, но в новой форме.
На это Прудон, может быть, возразил бы, что члены банка обмена самим фактом вступления в него обязываются не получать такого ажио. Но в таком случае, если они останутся верными своему обещанию, уничтожение дисконта или процента будет результатом не организации менового банка, а свободной воли членов его. Это будет уничтожение процента просто вследствие взаимного соглашения — чисто моральная реформа, для которой никакой банковский механизм не нужен, но которая, может быть, будет медленно осуществляться.
Таким образом, банк обмена не уничтожит дисконта, а следовательно, и права добычи вообще, и все другие выводы Прудона падают сами собой.
Его теоретическая ошибка состоит в том, что он рассматривает деньги то как по преимуществу капитал, то как простые боны обмена без своей ценности. Он забывает, что деньги желательны не только как посредник обмена, но и как орудие накопления сокровищ и сбережения, как резерв ценности, и что если боны обмена могут заменить их в одной функции, то они не могут этого сделать относительно других функций. Можно сколько угодно умножать орудия обращения, но нельзя произвольно умножать капитал. Заменяя деньги бонами, Прудон не прибавляет ни одного франка к существующему в обществе капиталу, часть которого составляют деньги. Тем самым он нисколько не уменьшает превосходства ценности настоящих благ по отношению к будущим — превосходства, из которого вытекает норма процента. Умножение бон обмена без соответствующего роста общественного капитала приведет лишь к повышению всех цен: цен земель, домов, машин, равно как и предметов потребления. Капиталы не станут более многочисленными, чем прежде, и нанимать или занимать их будут, как и прежде, но рента и арендная плата испытают на себе -последствия общего повышения цен и тоже повысятся... Странный результат реформы, которая должна была их уничтожить! Преувеличив власть денег, Прудон принял потом в слишком буквальном смысле формулу Ж.Б.Сэя "продукты покупаются на продукты". Интересно отметить, что банк обмена есть парадоксальное, но логическое заключение реакции, начатой Смитом и физиократами против меркантилистских идей о деньгах.
Можно ли сказать, что в идее Прудона нет зерна истины? Мы этого не думаем. Из ложной идеи о даровом кредите можно выявить правильную идею о взаимном кредите. Французский банк есть общество капиталистов, которому публика, принимая его банковские билеты, оказывает доверие и который потом кредитует эту же публику. Гарантия банковского билета (Прудон это очень хорошо знал) находится на самом деле в руках публики, ибо обеспечение ценности билета создается векселедателями, без платежеспособности которых банк не вернул бы своих выдач. Капитал акционеров есть лишь дополнительная гарантия, и эмиссионный банк, как уже говорил министр финансов Наполеона I, граф Мольян, теоретически мог бы производить свои операции без капитала. Таким образом, при посредстве банка публика ссужает самое себя. Но почему не может это происходить без его посредничества? Почему не устранить предпринимателя в области финансов, как устраняется промышленный предприниматель или торговец в производительных или потребительских кооперативных обществах? Конечно, от этого не исчезнет дисконт, но по крайней мере бремя его для заемщиков уменьшится на ту сумму, какую они будут приобретать в качестве заимодавцев. Это принцип обществ взаимного кредита, в которых первоначальный капитал почти всецело заменен ответственностью, иногда солидарной, кооперативов. Впоследствии сам Прудон, по-видимому, свел к этой идее свою первоначальную концепцию.
Таким образом, Прудон приближался к кредитной кооперации, как в других частях своего произведения он приближался к другим формам кооперации, не питая, впрочем, к ней очень большой симпатии.
Наряду с верной концепцией взаимного кредита имеется в его системе одна основная идея, которая выгодно отличает ее от всех форм авторитарного социализма, возникших до и после Прудона,— это глубокое чувство безусловной необходимости для индустриальных обществ индивидуальной свободы как двигателя экономической деятельности. Лучше, чем кто-либо из его предшественников, он понял, что экономическая свобода есть окончательное завоевание современных обществ, что всякая глубокая реформа должна опираться на эту свободу; лучше, чем кто-либо, он понял могущество этих спонтанных "экономических сил", гибельные последствия которых он хорошо видел, но в которых он подобно Адаму Смиту признавал в то же время сильнейший рычаг прогресса. Его страстная любовь к справедливости объясняет его ненависть к собственности, но его ревность к свободе вызвала враждебное отношение к социализму. Она вела еще больше к разрушению, чем к сооружению, вопреки его знаменитой формуле "Destruam et aedificabo" ("Разрушу и построю"). Но этот либерализм покоится на глубоком чувстве экономической реальности, и ныне социальная проблема ставится в тех же рамках, в каких поставил ее Прудон: реализовать справедливость в свободе.
Проект банка обмена Прудона не следует смешивать с аналогичными планами, возникшими до или после него. Во всех этих планах общее то, что средство избавления от социальных неравенств полагается в реформе обмена, но, помимо этого, аналогия между ними весьма часто чисто внешняя, а экономические идеи, лежащие в основе их, как мы увидим, весьма различны.
1) Часто сравнивали проект Прудона с системой бон труда в том виде, в каком пытался установить ее Роберт Оуэн; с системой англичанина Брея, предложенной в 1839 г. в произведении под заглавием "Labour's wrongs and labour’s remedy4 ("Несправедливости в отношении труда и средства к их устранению"); наконец, с системой Родбертуса, появившейся позже. Но боны обращения Прудона не имеют почти ничего общего с бонами труда, придуманными этими различными авторами. Боны обращения представляют векселя, выпущенные по поводу частных торговых сделок. Цена товаров определяется совершенно свободно покупателем и продавцом и исчисляется не временем производства, как в системе бон труда. Несомненно, конечный результат получится почти тот же: Прудон надеется, что цена товаров, не отягощенная бременем процента, в конце концов спустится до своей цены в труде. Но, с одной стороны, этот результат получится косвенным путем, а с другой — экономическая ошибка, лежащая в основе рассматриваемых нами концепций, не такая же, как ошибка Прудона. Ошибка Прудона состоит в том, что он видит в металлических деньгах лишь орудие обращения и забывает, что они тоже товар. Ошибка Оуэна, Брея, Родбертуса состоит в том, что в цене предметов они видят лишь результат содержащегося в них труда, — мысль, как мы знаем, чуждая Прудону.
2) Еще смешивали банк Прудона с другими весьма различными банками обмена, идея которых всплыла незадолго до него и которые были предметом многочисленных практических попыток. Эти банки не задавались целью уничтожить процент, их задачей было свести потребителей с производителями; они сами покупали и платили бонами обмена за все товары, которые им предлагались. Покупатели в свою очередь приходили в банк за необходимыми им предметами и платили за них тоже бонами. Опыт такого рода был проделан в 1829 г. неким Фюлькраном Мазелем7. Банк в данном случае был лишь складом, облегчавшим производителям сбыт товаров. Эта система наталкивается на то возражение, что ценность выпущенных в уплату билетов необходимо будет изменяться в зависимости от колебаний цены товаров в промежуток между оплатой их банком и предполагаемой покупкой их потребителем. Но Прудон хочет именно того, чтобы банк дисконтировал лишь векселя, представляющие уже купленные или доставленные товары. Его банк будет лишь выдавать аванс на уже обещанные цены, он не берет на себя обязанности размещать товары. Понижение цен может, таким образом, возникнуть — мы уже видели это — лишь от последующей неплатежеспособности покупателя, и не будет понижения цены, сопутствующей уменьшению спроса на продукты. Сам Прудон, впрочем, отвергал всякую солидарность с проектом Мазеля.
3) Наконец, в наше время крупный бельгийский промышленник Сольвей защищал план общественного контабилизма ("comptabilisme social" — система общественных расчетов), предлагая уничтожение металлических денег и введение усовершенствованной системы расплаты. Но здесь опять аналогия с системой Прудона скорее кажущаяся, чем действительная.
Сольвей предлагает замену металлических денег не банковскими билетами, а системой чеков и переводов. Проект его возник под влиянием современной практики Clearing-Houses, или расчетных палат. По его мнению, эта система может принять такие широкие размеры, что деньги станут совершенно бесполезными. Государство выдаст каждому контабилисту чековую книжку на сумму, соответствующую его движимому или недвижимому имуществу. В книжке имеются два столбца: один для записывания получек, а другой для записывания выдач. "В случае продажи какого-нибудь предмета погашение долга будет производиться следующим образом: покупатель поставит штемпель в чековой книжке продавца (столбец получек), а этот последний поставит штемпель в чековой книжке покупателя (столбец выдач)". Коща книжка будет проштемпелевана вплоть до начальной суммы, ее отправят в государственную контору, где все записи из книжки будут занесены на личные счета, "так что всегда с достаточной точностью будет известна совокупность получек и выдач каждого".
Польза от этой системы, во-первых, будет состоять в экономии на металлических деньгах, а во-вторых, система даст государству практическое и верное средство (по мнению Сольвея) знать с достаточной точностью об имуществе каждого. Таким образом, в руках у государства будет средство установить налог на наследства, и притом такой, что он позволит постепенно уничтожить право наследования в приобретенном имуществе. Это постепенно осуществляемое уничтожение позволит, наконец, избавиться от "основной несправедливости современных обществ— неравенства исходного пункта" и применить принцип распределительной справедливости "каждому по его производительности". Это скорее сенсимонистская, чем прудонистская, идея. Важность предложенной реформы очевидна: Comptabilisme есть, по мнению Сольвея, элемент более общей концепции "продуктивиз-ма", которая состоит в том, чтобы совокупностью самых разнообразных средств довести общественную производительность до максимума.
Во всем этом невозможно найти какую-нибудь идею Прудона. Кроме уничтожения металлических денег, все остальное в обеих концепциях различно. Сольвей не стремится к уничтожению процента и не думает, что деньги — причина этого процента. Система чеков и переводов у него вводится лишь для облегчения продажи за наличный расчет и не имеет ничего общего с системой Прудона, в которой боны обращения предназначены для идентификации продажи за наличный расчет с продажей в кредит.
Самое серьезное возражение, которое можно сделать системе Сольвея, заключается в том, что уничтожение денег как орудия обращения повлечет за собой также уничтожение их как мерила ценности. Кажется, трудно предупредить, чтобы чековая книжка, сделавшись общим явлением, без поддержки металлических денег быстро не привела к вздутию цен вследствие обилия на рынке бумаг. Но хотя технический прием, предлагаемый Сольвеем, нам кажется не выдерживающим критики, однако мы ничего не можем возразить против идеи уменьшения количества металлических денег и устранения неравенства исходного пункта в индустриальном обществе.
Проект Прудона не увидел света. "Даровой кредит", равно как и "право на труд", "организация труда", "рабочая ассоциация", оставит по себе лишь горечь воспоминания о шумном их провале.
31 января 1849 г. Прудон учредил нотариальным актом под названием Банк народа общество, задававшееся целью доказать практическую осуществимость дарового кредита. Уже в организации его можно было констатировать значительные расхождения с теоретическим планом банка обмена. Последний должен был возникнуть без капитала, а Банк народа был создан с капиталом в 5 000 000 фракциями по 5 франков. Банк обмена должен был уничтожить металлические деньги, а Банк народа должен был лишь выпускать боны в обмен на деньги и коммерческие векселя. Банк обмена должен был практически уничтожить процент, а Банк народа фиксировал 2 % в ожидании, пока он спустится до минимума в 1/4%.
Несмотря на эти важные изменения, Банк не функционировал. В течение трех месяцев капитала подписанного было не более 18 000 франков, хотя число членов достигало почти 12 000. Но в это время (28 марта 1849 г.) Прудон был предан суду присяжных за две статьи против Луи Бонапарта, появившиеся 16 и 27 января 1849 г, и приговорен к трем годам тюрьми и к 3 000 франков штрафа. 11 апреля он объявил в своей газете, что приостанавливает свое предприятие, и даже прибавил, "что события уже опередили его", и таким образом, по-видимому, признал, что он перестал верить в успех Банка.
С этого момента даровой кредит отступает у Прудона на задний план, и на первый план выдвигаются его политические и социальные концепции, которые он и приводит в своих произведениях до конца дней своих (он умер в 1865 г.).
§ 4. Влияние Прулона после 1848 года
Чрезвычайно трудно проследить влияние мысли Прудона в период времени, последовавший за 1848 г.
Карл Маркс, почти еще неизвестный в этот момент и сделавшийся со времени публикации в 1867 г. "Капитала" почти единственным представителем теоретического социализма, с 1847 г. открыл жесточайшие нападки против Прудона, выпустив в свет под заглавием "Нищета философии" резкую критику "Экономических противоречий". Представитель коллективизма не мог согласиться с защитником раздробленной индивидуальной собственности, теоретик борьбы классов — с защитником слияния классов, революционер — с защитником мирных реформ. Успех идей Маркса после 1867 г. покрыл мраком забвения все прежние социалистические системы®. В его глазах Прудон лишь "мелкий буржуа". Тем не менее, коіда (1864 г.) в Лондоне основалось знаменитое Международное Товарищество Рабочих (Первый Интернационал), входившие в него парижские рабочие, по-видимому, были еще проникнуты насквозь прудонистскими идеями. На первом конгрессе Интернационала в Женеве в 1866 г. они представили доклад, идеи которого весьма определенно навеяны учением Прудона, и заставили конгресс принять резолюции. Но со следующего конгресса, в 1867 г., они натолкнулись на более сильное сопротивление, на конгрессах же Брюссельском (1868 г.) и Базельском (1869 г.) влияние Маркса становится преобладающим.
Может даже возникнуть вопрос: были ли прудонистские идеи, защищавшиеся парижскими рабочими в 1866 г., внушены Прудоном 1848 г.? Скорее всего, они взяты из последней работы Прудона 1865 г. "La capacite politique des classes ouvrieres" ("Политическая способность рабочих классов"). Это произведение им самим написано под впечатлением рабочего движения, возродившегося в Париже после 1862 г., и вследствие манифеста, подписанного 60 парижскими рабочими, которые считали необходимым представить его Прудону как самому известному представителю социализма во Франции. Позицию французских рабочих при первых шагах Интернационала следует, скорее всего, объяснить фактом пробуждения прудонизма, проявившегося в издании этой книги, чем традицией его идей после государственного переворота.
Это пробуждение было, во всяком случае, непродолжительно. Но в наше время, после того как идеи Маркса в свою очередь подверглись весьма оживленной критике, проявляется новый интерес у некоторых писателей к идеям Прудона. Эти писатели — из них главный Жорж Сорель — сочетают весьма живое восхищение Марксом с неменьшим уважением к Прудону. И все-таки трудно даже здесь говорить о пробуждении прудонистских идей. Речь идет, скорее всего, о новом идейном течении, вдохновляемом рабочим синдикализмом, где можно встретить два направления, исходящие одно от французского социалиста-анархиста, а другое от немецкого социалиста-коллективиста. Оно, во всяком случае, слишком молодо, чтобы можно было теперь определить его важность.
эн
Книга третья
Либерализм
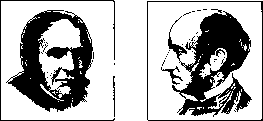
Нассау Уильям Сениор Джон Стюарт Милль
1790 - 1864 1806 - 1873
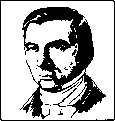
Фредерик Бастиа 1801 - 1850
эн
Теперь время вернуться к покинутой нами классической экономии. Что делала она в то время, коща столько врагов объявляло ей войну? Она не умерла, она собиралась с силами. После выхода в начале века великих книг Рикардо, Мальтуса, Ж.Б.Сэя экономическая литература, особенно в Англии, не предалась покою. Но она ничего не создала, что пошло бы в сравнение с произведениями первых учителей, ни даже с произведениями ее красноречивых критиков. Однако она завоевала благосклонность публики и создала, что, вероятно, могло быть только временным, единодушие в настроении умов.Но это не было истинным единодушием, ибо с того пункта, на котором мы сейчас находимся, классическая школа уже начинает разбиваться на две школы — английскую и французскую. Правда, они не соперничают, они обе защищают одно и то же дело, сообща охраняют основные принципы и больше всего — либерализм, или, как еще говорят, индивидуализм. Но в то время как первая со Стюартом Миллем во главе внимательно прислушивалась к поднимавшимся со всех сторон пламенным критикам и старалась старые теории подогнать к новым идеям, вторая, наоборот, вместе с Бастиа изо всех сил противодействовала им, утверждая веру в естественный порядок и в laisser faire.
На самом деле это расхождение между обеими школами восходит к началу науки. Оно было уже заметно в отношениях между физиократами и Адамом Смитом, между Ж.Б.Сэем и Рикардо и с течением времени все более и более обозначалось по причинам, которые мы укажем потом.
Вполне естественно, что эта книга будет разделена на две главы, из которых одна будет посвящена главным образом французской либеральной школе, а другая — английской.
