Алексей Синельников - Спекулянт, ростовщик, банкир

Приходилось все время пробираться в объезд, через лес, где на полянках у костров грелись беглые солдаты и разбойники. При переправе через реки паромщики выворачивали карманы не хуже грабителей. Если же через реку был перекинут мост, то зоркая стража, выставив алебарды, требовала «мостовые» за проезд. Но как ни тяжела дорога, ехать надо.
Купить что-либо или продать что-либо можно было только на ярмарках. Они проходили из года в год в определенном месте и в определенное время. В точно назначенный срок здесь совершалась оптовая торговля товарами повышенного спроса. После продажи производилась уже оптовая закупка местных изделий. Опоздал на день - неси убытки. Вот и странствовали купеческие караваны из Шампани в Лион, из Лиона в Оранж.
Спекулянт
« Торговцы не извлекали бы прибыли, если бы не занимались обманом».
Цицерон
Феодалы драли с купцов пошлины при переезде из владений одного сеньора в земли другого. Разумеется, из нишего крестьянина много не выжмешь, а купец -это живые деньги. При всяком удобном случае знатные рыцари и даже короли не стеснялись нападать на купеческие караваны. Поэтому торговый караван походил на маленькую армию, готовую в любой момент постоять за себя. Телеги с товаром при малейшей тревоге ставили в круг, и грабителей встречали стальные жала пик и ливень арбалетных стрел. Купец ощущал себя не столько торговцем, сколько воином во враждебной стране. Посему и психология его была как у хищника - на войне, как на войне. Он должен добыть деньги любым способом. Излишняя щепетильность и гуманизм только вредили. Честным можно быть только к собственным собратьям, особенно в финансовых обязательствах - иначе разорят.
Конечно, весь феодальный уклад с его цеховыми взаимоотношениями, с постоянными поставщиками и партнерами, которые передавались от отца к сыну, принуждал купца специализироваться на каком-то одном товаре. Однако купец не был бы купцом, если не бросался бы в рискованные спекуляции.
В 1570 году немцы из Нюрнберга (оружейники) загребли в Лионе всю пряжу и ткани местного производства, чтобы вывезти их в другие торговые центры. Скупая товар подчистую, можно было безбожно задрать цены. Указы местных правителей тщетно пытались бороться оо злокозненными и разорительными монополиями.
Речь идет не столько о генералах коммерции, которые держали в своих руках торговлю пряностями
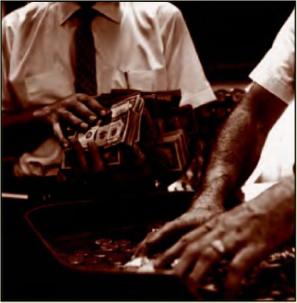
или пушиинои, сколько о тех мелких и средних предпринимателях, которые сновали по сельской местности и забирали зерно, вино, масло, сало и кожи. Все, что их расторопные подручные могли выжать из лопоухих крестьян обманом, убеждениями, угрозами (у них было больше наглости, чем капитала), грузилось на телеги и отправлялось туда, где могло принести большую прибыль. Купец покупал и продавал все, что приносило золото. Купец в то время был, прежде всего, авантюристом и барышником. Если бы он не был спекулянтом, держащим все время нос по ветру, тяжесть ремесла раздавила бы его.
Если до конца X века главной в перечне грехов была гордыня, то в XI веке грехом номер один становится алчность
Закончив одну операцию по выворачиванию карманов ближнего, купец готовился к следующей. Но всякую большую торговую сделку нужно было тщательно спланировать и подготовить. Возникала вынужденная пауза - затишье в делах. Мог ли он, «рыцарь наживы», позволить деньгам недвижно покоиться в сундуке? Нет. Чтобы деньги работали, он их ссужал. Правда, церковь сурово осуждала такой вид деятельности. Каким бы ни был скромным процент, она считала это воровством. Она отвергала ростовщичество в принципе. Pecunia pecuniam non parit -от денег деньги не родятся! Впрочем, спекуляции тоже осуждались.
В XII веке итальянским юристом Грацианом был составлен сборник канонического права (т.н. декрет ГраЦИаНа), В Нем Запрещалось искусственно взвинчивать цену на товары. Прибыль, полученная таким способом, называлась «неправой». Справедливой ценой считалась ходовая цена на рынке при благоприятной конъюнктуре и отсутствии махинаций. В некоторых статьях Грациан предлагал устанавливать цену советом уважаемых людей, а не произволом купца. Но тут же оговаривался, что она должна обеспечивать справедливое вознаграждение за труд производители и труд продавца.
Однако по таким правилам купец жить не собирался. Он успокаивал свою совесть тем, что продать вдвое или втрое против первоначальной цены - это тоже нужно уметь, это тоже труд. С дачей денег в рост дело обстояло сложнее. Бог с ней, с совестью! А вот как заставить должника вернуть всю сумму да
Однако по таким правилам купец жить не собирался. Он успокаивал свою совесть тем, что продать вдвое или втрое против первоначальной цены - это тоже нужно уметь, это тоже труд.
С дачей денег в рост дело обстояло сложнее.
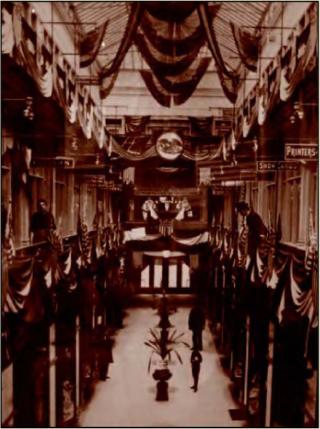
еще с процентами, когда ни один суд - ни светский, ни духовный - не возьмет это дело к рассмотрению как противоречащее морали?
И все-таки люди выкручивались. При возврате денег использовали такую уловку. Предположим, к купцу Н. пришел купец Ф. и попросил дать взаймы денег под проценты, что, несомненно, является грехом и осуждается церковью. Но если купцы Н. и Ф. организовали бы торговую компанию с совместным капиталом в 1000 экю, то было бы только справедливым, если купец Н. получит через какое-то время свой процент прибыли. И никого не волновало, что 999 экю вложил Н.: торговое предприятие -это торговое предприятие.
Полученная прибыль не имеет ничего общего с ростовщичеством!
Деньги нужны были не только купцам. Крестьянин просил взаймы 100 ливров для обустройства. Взаймы давать было нельзя, но для крестьянина можно было установить ренту. Подписывался документ, что купец Н. покупает у крестьянина В. за 100 ливров столько-то мешков зерна и кувшинов вина, каковой товар В. обязуется поставить в конце Гида, получив авансом 100 ливров. А уж какое количество зерна продается и как разнится цены от рыночных - это личное дело крестьянина В.
Между прочим, купец Н. тоже рискует: а вдруг урожай к концу года будет на редкость обильным, зерно резко подешевеет - значит, плакали денежки и проценты. Но на самом деле Н. не так уж и рисковал. Это крестьянское хозяйство поджимало время, а купцу можно было и подержать зерно в амбарах, подождать, пока оно повысится в цене, или продать его за границу подороже. Разбогатев на жалкой деревенщине, купец мог ссужать по той же схеме и горожанина, и богатого сеньора, ощутившего временную нужду в деньгах. 12-16% -это были обычные общепринятые ставки.
Ссужали даже королей. Хотя это было очень рискованным занятием. Такая операция могла принести и огромные прибыли, но могла окончиться и потерей денег. Мало того, незадачливый заимодавец мог отправиться на виселицу, облыжно обвиненный в государственной измене. Короли тоже люди. Им не нравится брать чужие деньги на время, а отдавать свои навсегда. Король Филипп Красивый сначала занял крупную сумму у еврейских менял, а после изгнал евреев из Франции. Деньги, естественно, возвращены не были.
Эта практика ему очень понравилась, и через некоторое время он попросил взаймы у тамплиеров. Всем
Все менялы были связаны между собою корпоративными узами, и меняла из Генуи мог легко дать заемное письмо для менялы из Венеции, чтобы не тащил по проселочным дорогам купец с собою тяжелую и соблазнительную для грабителей казну. А весила она тогда весьма и весьма прилично.
известно, чем это кончилось. Обвинением тамплиеров в ереси, сжиганием их на костре и, разумеется, конфискацией имущества. Так что давать в долг королям старались не своим, а чужим, и под надежное обеспечение. Чужого всегда можно было хотя бы обругать и ославить мошенником, не боясь, что голова расстанет-ся с телом,
Впрочем, звание королевского заимодавца могло приносить приличные деньги, если относиться к нему как к неизбежному и немного пораскинуть мозгами. Король получал свои доходы от поступления налогов, податей и пошлин. Когда королю хотелось облагодетельствовать какого-либо своего любимца или любимицу, он обычно выдавал платежное распоряжение типа: выдалъ мадам де Л. 500 ливров в счет налога за соль с города Мо.
Мадам де Л. совсем не улыбалось ехать в город Мо непосредственно к сборщику налогов и, размахивая бумажкой с королевской подписью, требовалъ денег. Она прости обращалась К купцу И., Королевскому кредитору, который, удержав себе определенный процент, выдавал ей наличные. А уж потом, будьте уверены, он выбивал всю сумму до последнего су.
Так что отираться в прихожих дворца было очень даже выгодно. Со временем такая практика стала называться откупом. Когда королю срочно нужны были деньги, он брал их у какого-нибудь денежного мешка, предоставляя ему собрать налоги с какой-либо провинции. Сколько после этого монет, выжатых из несчастных плательщиков, ссыпалось в сундуки заимодавца, не прояснят нам никакие архивные документы.
Банкир
яЕжели имеешь деньги, не бездельничай и не держи их дома мертвыми, ибо лучше уж деятельность без прибыли, чем бездействие без прибыли. Ибо если ты действуешь, не приобретая ничего, не теряешь и своих торговых связей.
А если потерял ничего из капитала и не потерял торговых связей - и это достаточная прибыльк.
Паоло ди Кертальдо
Банко - так называлась по-итальянски скамья, на которой сидел меняла. К нему, к этому кровопийце, шел купец на поклон, чтобы получить необходимый кредит. У кого еще можно было перехватить денег? Свой брат купец мог бы ссудить по дружбе и под меньший процент, да свободных денег у него втрое меньше, чем нужно. Даже если бы деньги и нашлись, то отдавать их нужно через месяц - коммерция простоя не терпит. А вот ростовщик-меняла на том и живет, что предоставляет деньги на такой срок, на какой нужно, за то и повыше проценты (которые в то время скромно именовались - Дары).
Кроме прочего, все менялы были связаны между собою корпоративными узами, и меняла из Генуи мог легко дать заемное письмо для менялы из Венеции, чтобы не тащил по проселочным дорогам купец с собою тяжелую и соблазнительную для грабителей казну. А весила она тогда весьма и весьма прилично.
В сохранившемся счете 1585 года упоминается о выплате 55 франков посыльному за доставку 2200 франков на расстояние, равное современным 60 километров. Ему пришлось нанять тележку, поскольку во вьюках на одной лошади деньги не помещались. Монеты были наверняка серебряные и медные (золото встречалось редко), самого разного происхождения и веса. Везти с собою в кармане равный по сто-ИмосіИ КЛоЧоК бумаги было Гораздо удобнее.
Первые банки именно этим и занимались - приемом вкладов купцов, ведением для них безналичных расчетов и, разумеется, кредитами. Чтобы как-то обуздать жадность ростовщиков, купцы стали создавать кредитные ассоциации, выдававшие ссуды на приемлемых условиях, но только для своих. В отличие от ростовщиков, они прекрасно знали финансовое положение друг друга. Коллегу не обманешь. Постепенно они переняли от них название банко - банк.
В Х?І-Х?ІІ вв. в тех городах, где сосредоточилась международная торговля (Венеция, Генуя, Милан, Амстердам, Гамбург, Нюрнберг), купеческие гильдии создали жиро-банки (от итальянского giro - быстро). Имелось в виду, что все финансовые операции проводятся очень быстро - ярмарка длилась недолго. Если что - неисправимого должника моментально арестовывали, а его товары тут же передавали кредитору. Жиро-банки занимались и приемом вкладов от купцов, и ведением безналичных расчетов.
В 1569 г. в городе Болонин (Италия) был принят первый вексельный устав. Вексель превращался в средство расплаты, когда из-за недостатка наличности приходилось выдавать письменные обязательства. Купцы превратили вексель в особый вид денежной ценности. Им расплачивались при сделках, его передавали друг другу, прибавляя при этом надпись за надписью. Однако до рождения идеи выпускать банковские обязательства и ценные бумаги оставалось еше больше ста лет